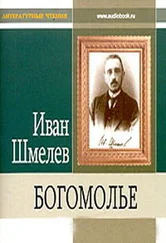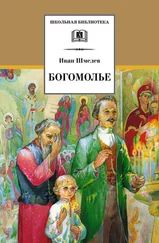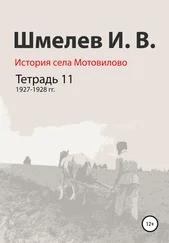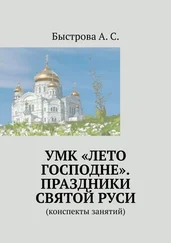– А меня-то… обещался ты, а?.. – спрашиваю я его и чувствую горько-горько, что меня-то уж ни за что не пустят. – А меня-то, пустят меня с тобой, а?..
Он даже и не глядит на меня, все разбирается.
– Пустят тебя, не пустят… – это не мое дело, а я все равно уйду. Не-эт, не удержите… всех, брат, делов не переделаешь, не-эт… им и конца не будет. Пять годов, как Мартына схоронили, все сбираюсь, сбираюсь… Царица Небесная как меня сохранила, – показывает Горкин на темную иконку, которую я знаю, – я к Иверской сорок раз сходить пообещался, и то не доходил, осьмнадцать ходов за мной. И Преподобному тогда пообещался. Меня тогда и Мартын просил-помирал, на Пасхе как раз пять годов вышло вот: «Помолись за меня, Миша… сходи к Преподобному». Сам так и не собрался, помер. А тоже обещался, за грех…
– А за какой грех, скажи… – упрашиваю я Горкина, но он не слушает.
Он вынимает из сундучка рубаху, полотенце, холщовые портянки, большой привязной мешок, заплечный.
– Это вот возьму, и это возьму… две сменки, да… И еще рубаху, расхожую, и причащальную возьму, а ту на дорогу, про запас. А тут, значит, у меня сухарики… – пошумливает он мешочком, как сахарком, – с чайком попить-пососать, дорога-то дальная. Тут, стало быть, у меня чай-сахар… – сует он в мешок коробку из-под икры с выдавленной на крышке рыбкой, – а лимончик уж на ходу прихвачу, да… ножичек, поминанье… – сует он книжечку с вытесненным на ней золотым крестиком, которую я тоже знаю, с раскрашенными картинками, как исходит душа из тела и как она ходит по мытарствам, а за ней светлый Ангел, а внизу, в красных языках пламени, зеленые нечистые духи с вилами. – А это вот, за кого просвирки вынуть, леестрик… все по череду надо. А это Сане Юрцову вареньица баночку снесу, в квасной послушание теперь несет, у Преподобного, в монахи готовится… от Москвы, скажу, поклончик-гостинчик. Бараночек возьму на дорожку…
У меня душа разрывается, а он говорит и говорит и все укладывает в мешок. Что бы ему сказать такое?..
– Горкин… а как тебя Царица Небесная сохранила, скажи?.. – спрашиваю я сквозь слезы, хотя все знаю.
Он поднимает голову и говорит нестрого:
– Хлюпаешь-то чего? Ну, сохранила… я тебе не раз сказывал. На вот, утрись полотенчиком… дешевые у тебя слезы. Ну, ломали мы дом на Пресне… ну, нашел я на чердаке старую иконку, ту вон… Ну, сошел я с чердака, стою на втором ярусу… – дай, думаю, пооботру-погляжу, какая Царица Небесная, лика-то не видать. Только покрестился, локотком потереть хотел… – ка-ак загремит все… ничего уж не помню, взвило меня в пыль!.. Очнулся в самом низу, в бревнах, в досках, все покорежено… а над самой над головой у меня – здоровенная балка застряла! В плюшку бы меня прямо!.. – вот какая. А робята наши, значит, кличут меня, слышу: «Панкратыч, жив ли?» А на руке у меня – Царица Небесная! Как держал, так и… чисто на крылах опустило. И не оцарапало нигде, ни царапинки, ни синячка… вот ты чего подумай! А это стену неладно покачнули – балки из гнезд-то и вышли, концы-то у них сгнили… как ухнут, так все и проломили, накаты все. Два яруса летел, с хламом… вот ты чего подумай!
Эту иконку, я знаю, Горкин хочет положить с собой в гроб – душе чтобы во спасение. И все я знаю в его каморке: и картинку Страшного Суда на стенке, с геенной огненной, и «Хождения по мытарствам преподобной Феодоры», и найденный где-то на работах, на сгнившем гробе, медный, литой, очень старинный крест с «адамовой главой», страшной… и пасочницу Мартына-плотника, вырезанную одним топориком. Над деревянной кроватью, с подпалинами от свечки, как жгли клопов, стоят на полочке, к образам, совсем уже серые от пыли просвирки из Иерусалима-града и с Афона, принесенные ему добрыми людьми, и пузыречки с напетым маслицем, с вылитыми на них угодничками. Недавно Горкин мне мазал зуб, и стало гораздо легче.
– А ты мне про Мартына все обещался… топорик-то у тебя висит вон! С ним какое чудо было, а? Скажи-и, Горкин!..
Горкин уже не строгий. Он откладывает мешок, садится ко мне на подоконник и жестким пальцем смазывает мои слезинки.
– Ну, чего ты расстроился, а? Что ухожу-то… На доброе дело ухожу, никак нельзя. Вырастешь – поймешь. Самое душевное это дело – на богомолье сходить. И за Мартына помолюсь, и за тебя, милок, просвирку выну, на свечку подам, хороший бы ты был, здоровья бы те Господь дал. Ну, куда тебе со мной тягаться, дорога дальняя, тебе не дойти… по машине вот можно, с папашенькой соберешься. Как так я тебе обещался?., я тебе не обещался. Ну, пошутил, может…
Читать дальше