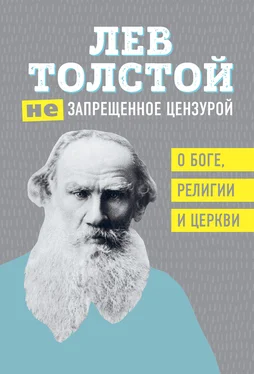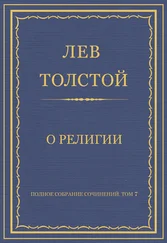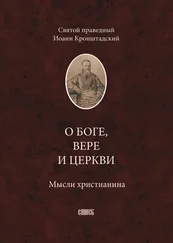Лев Толстой в зеркале русской критики
В марте 1908 года Л. Н. Толстой работал над улучшением второго издания своего «Круга чтения». Мысли и изречения, вошедшие в него, собирались автором на протяжении нескольких десятилетий и расположены им по календарным дням с 1 января по 31 декабря. На 2 сентября Толстой записал: «Чем ближе люди к истине, тем они терпимее к чужим заблуждениям. И наоборот» (4, т. 2, с. 8). Эта мысль может служить эпиграфом ко всему тому, что писала беспощадная критика о моралисте, философе, художнике и христианине Толстом. С этой позиции мы и предлагаем рассматривать все pro и contra, вызванные сложными, а иногда и двойственными воззрениями Толстого. С ним можно спорить, можно соглашаться, но в одном ему отказать нельзя. «Репутация плохого мыслителя» незаслуженно закрепилась за автором «Войны и мира», а между тем «Гр. Толстой во всех своих доводах опирается единственно на разум и логические доказательства» (10, с. 57). Так писал один из исследователей творчества Толстого Н. Михайловский в статье «Десница и шуйца Льва Толстого», и у нас нет оснований не согласиться с ним. Заканчивая свою статью, Н. Михайловский убеждает читателя в необходимости «признать, что это – мыслитель честный и сильный, которому довериться можно, которого уважать должно. Самые противоречия такого человека способны вызвать в читателе ряд плодотворных мыслей» (10, с. 134).
Итак, несмотря на глубокие противоречия, а может быть, именно благодаря им, Толстой как мыслитель достоин глубокого уважения хотя бы потому, что не испугался самого сложного, самого честного на пути к истине – спора с самим собой.
Упоминая об оценке критики религиозных воззрений Толстого, нельзя обойти вниманием русского писателя, философа, в чьих статьях о религии и церкви Толстому уделено немало внимания. Речь идет о Василии Васильевиче Розанове. Статья «Л. Толстой и Русская Церковь», как отмечает сам автор в предисловии, была написана для французского журнала «Revue contemporaine» и ориентирована на западноевропейского читателя. Основной ее тезис состоит в следующем: Толстой и Русская Церковь разошлись по причине непонимания и даже незнания друг друга. Говоря о русском духовенстве, Розанов отделяет его от всего русского общества, от России. В его интерпретации Русская Церковь является институтом совершенно отдельным, замкнутым. Члены этого института заняты проблемами внутреннего характера, т. е. отношением со светской властью, «экономическим своим обеспечением или, вернее, полной необеспеченностью» (19, с. 365), внутренними раздорами; так что талант великого писателя, его глубокие нравственные и философские поиски явились для духовенства только «вздором и баловством барской души». Это – непонимание со стороны духовенства. Стараясь быть объективным, Розанов рассматривает и сторону Толстого. Автор статьи отмечает, что «темнота и корыстолюбие», «мелкая бытовая неряшливость», «непрямота в отношении к богатым людям» и «равнодушие к нравственному состоянию народа» – все эти «мелкие специфические личные недостатки и пороки» Русской Церкви не могли остаться незамеченными для Толстого. И тем не менее в любвеобильной Русской Церкви звучат молитвы о доброте и прощении, а «духовное настроение полно нежности, деликатности, глубокого участия к людям». Эти основные противоречия Русской Церкви обострились к концу XIX века, следствием чего, очевидно, явилось возникновение и развитие секуляризма в России. Эти же противоречия глубоко вошли и в светскую жизнь, где «не плоть, а дух растлился», и где каждый «свет обретши, ропщет и бунтует» [2] Цит. стихотворение Ф. Тютчева «Наш век» (Не плоть, а дух растлился в наши дни).
. Возможно, такое общество было более восприимчивым к появлению новых теорий и толстовская идея непротивления, его «новая мораль» если не были приняты полностью, то, по крайней мере, нашли в нем определенный отклик. Далее Розанов пишет: «Бывали случаи в России, что темный человек зарежет на дороге путника; обшаривая его карманы, найдет в них колбасу, тогда он ни за что не откусит от нее куска, если даже очень голоден, если убийство случилось в постный день, когда церковью запрещено употребление мяса. Это ужасный случай, но он действителен» (19, с. 359).
Но самую главную «великую задачу» русского духовенства и Церкви – «выработку святого человека, самого типа святости» – по мнению Розанова, Толстой «просмотрел». Образ русского святого, «божьего человека», ушедшего в тишину пещеры или шалаша, терпящего голод, холод, нужду, затем духовно очищенного и возвратившегося с Богом в душе, особенно близок и мил Розанову. Именно в воспитании стремления к святости у русского человека видит он основную функцию русского православия. Этот святой дан русской Церковью, церковным духом, церковными молитвами о доброте, кротости, примирении всех людей, прощении обид, неосуждении ближнего и т. д. Словом, он явился воплощением всего лучшего, что несло в себе русское православие. Вернувшись из уединения, русский святой или странствует, или поселяется вблизи монастыря, но, как пишет сам автор, никогда в самом монастыре.
Читать дальше