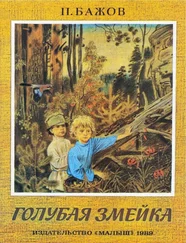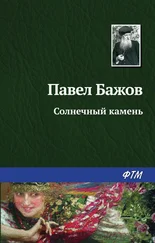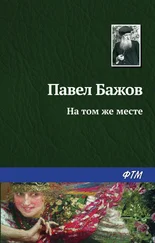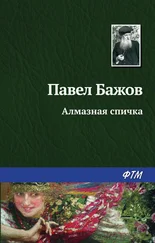Не помню уж, по какому случаю Алексеич стал рассказывать про свои камешки.
— По нынешним, дескать, временам научились чуть не все дорогие камни из подходящих составов плавить. Александрит только не одолели, да изумруд упирается. Делают его, да пока плоховато, а остальные камешки хорошо идут. Кто в этом деле не крепко разбирается, тому, пожалуй, и не отличить плавленый от настоящего. Горщики, разумеется, не ошибутся, а гранильщики и подавно.
Одна из женщин и спрашивает:
— А в чём, скажите, разница? Как отличить плавленый камень от настоящего?
Алексеич позамялся, потом говорит:
— На глаз хорошо вижу, а растолковать не могу. При нашей работе это явственно видно. С плавленым камнем тебе думать не о чем, потому — камешки один в один. Твое дело соблюдать размер — и всё. А самородный камешок, который из горы добыт, он смекалки требует. Подумать надо, с которой стороны и как его показать. Зато и утеха есть, коли угадаешь огранить, как тому камешку подходит. Глядишь на такой — и сердце радуется.
Тут парень один врезался. Не знаю его фамилии. Знаю только, что с турбинного. Задористый такой. В передовиках его на заводе считали. Портрет его как-то в нашей газете видел. Так вот и говорит:
— Если самородный только тем отличается, что с ним возни больше, так это пустое дело.
— Нет, не пустое! — говорит Алексеич и показывает на Менухову: — Вот у Варвары Петровны брошечка с самородными камнями. Ты, небось, эту брошечку приметил. А у них вон, — указал он на другую женщину, — кулончик будто и богаче, а видимости той не имеет, потому — из плавленых.
— Верно, дед, — не скрывая своего удивления, подтвердил парень, — на брошку поглядел, а кулона вовсе не заметил.
— Вот то-то и есть! А цвет, состав и крепость у камней одна. На любых приборах проверяй, какие хочешь пробы бери, разницы не найдёшь, а живого огонька, какой в самородном камне есть, всё-таки не увидишь.
— Значит, чего-то не нашли, — говорит парень и с уверенностью добавляет, — изучат полностью и доведут. Не беспокойся, дед.
— В том спору нет, что доведут, — говорит Алексеич. — Сам вижу, что дело вперёд идёт. Камни самой высокой марки выходят. О другом говорю: когда плавленый камешок, как самородный, свою особи ну иметь будет?
— По моим приметам, скоро, — неожиданно вмешался Евграф Васильич.
Алексеич, как он любил с Евграфом на словах сцепиться, сейчас ухватился за это.
— Что зря болтать-то! Какие у тебя могут быть приметы, когда ты близко к нашему делу не подходил? Что ты в нём знаешь!
Разговор у Алексеича резкий, крикливый. Кто близко к завалинке был, слышит, — старики заспорили. Подходить стали. Любопытно им. И те женщины, которые за ключом пришли, тут же стоят. Алексеича это, видно, ещё больше раззадорило, он уж вовсе кричать стал:
— Ну-ка, скажи свои приметы! Что навыдумывал?
— И скажу, только с уговором, чтоб не перебивать. Потом твой разговор будет.
— Как на собраниях?
— Так-то, по-моему, лучше, чем перекоряться да кричать.
— Ну-ну, балакай, коли ты такой умный! Пусть послушают, что выходит, когда берутся судить о том, чего не знают.
— Ты не подковыривай до времени, а слушай. После уж душу отведёшь.
— Ладно, ладно. Говорю, — балакай. До конца слова не выроню.
Тут Евграф Васильич и стал рассказывать.
— К гранильному делу мне касаться не приходилось. Это он правду говорит. Зато я знаю мастеров своих годов. А мастер, как известно, всему делу голова. Недаром сказано: «Дело мастера боится». Вот об этих мастерах я хочу сказать. Сегодня вы наглядно видели, какие они, эти старые мастера. Когда товарищи с турбинного попросили объяснить разницу между самородным и плавленым камнем, так что ему мастер сказал? Самородный, дескать, сердце радует, живой огонёк в нём, особина. Разве это можно понять без показа? Как живой огонёк образуется, в чём особина — всё это ему не сказать. А показал на деле, и человеку ясно стало, что разница есть, что мастер хорошо это понимает, только на словах объяснить не может.
Это я не в укор Алексеичу. Другие мастера наших годов такие же были. Сошлюсь на себя. Я считаюсь пограмотнее Алексеича, побольше учился да и побродить по многим местам привелось, а спросите меня по моему делу, тоже показать покажу, а объяснить, почему и как — не сумею. А сам я учился токарному делу вовсе у неграмотного мастера. Теперь об этом скажешь, так не все верят. А было. Покойный Пётр Михайлыч Щевелов тонко своё дело знал, а ни читать, ни писать не умел. Скажут ему размеры, он их запомнит, больше не спросит и сделает вещь без ошибки. Ну, а на словах станет объяснять, ничего не поймёшь. Он вдобавок заикался, так и вовсе неразбериха выходила. И всё-таки показом он не одного меня выучил.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
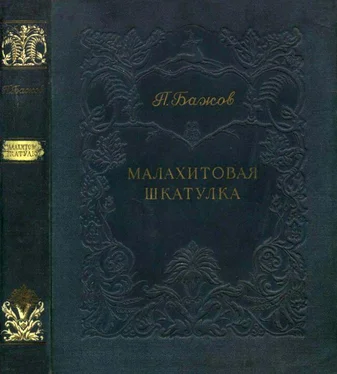
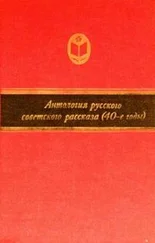
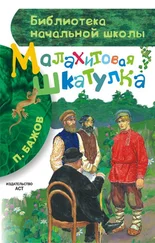
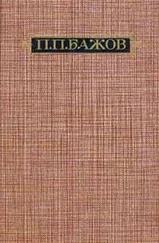
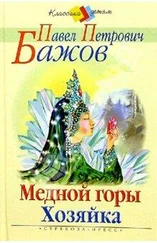
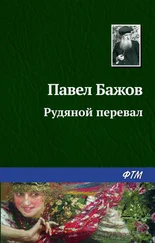
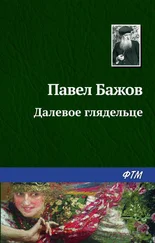
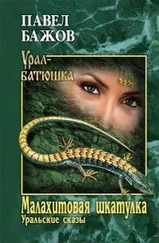
![Павел Бажов - Малахитовая шкатулка [Уральские сказы. Илл. А.Н. Якобсон]](/books/419299/pavel-bazhov-malahitovaya-shkatulka-uralskie-skazy-thumb.webp)