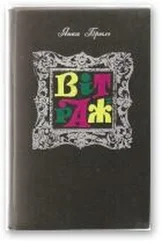- Говорили, пане Мукосей, и я вам очень благодарна за все.
- Благодарна, Чеся, и это понятно: ведь ты человек культурный. Однако же, пане Мукосей, не за так вы мне и помогали. Почему же вы молчите о том, что каждый раз брали с меня расписку?
- Но, мамуся! Не надо!
- Погоди, доченька...
- Я говорю, не надо. Ради бога!..
- Я должна ему сказать хоть сейчас!.. Он мне уже все нервы издергал, этот... пан Мукосей! Я молчала, потому что боялась. Отчизна вспомнила обо мне. Я - Росицкая из Анцутов, и я не позволю...
- Во имя всего самого дорогого, мамуся, ну, не надо! Ты же скоро увидишь всех, кто тебя любит... И Лешек и Зигмусь... Ну, успокойся... И вы, пане Мукосей. Ну, я вас прошу...
- А я что, паненочка? Я ж только заикнулся про свое. Когда я, пани, носил вам, кормил, как родную, так и я был для вас человеком...
- Был ты со мной, Мукосей, человеком, благодетелем! А кто с меня расписки брал? Два-три кузовка картошки, каравай хлеба, кусок сала - и опять расписка на целый гектар!..
- Мамуся, родная, мы с тобой скоро уедем... Уже и документы на тебя...
- Мы уедем, а все останется!.. Наше, кровное, от деда-прадеда панское!.. Я уеду, а что я скажу сыновьям? Как посмотрят Лешек и Зигмусь? Куда же им вернуться? Пан Чарнота тоже думал, что это глупости! При тех еще, при самых первых большевиках, когда те банды пошли на Варшаву. Я твою хитрость, пане Мукосей...
- Но, мамуся!..
- Молчи, Чеслава! Я все ему должна выложить! Свентэй паменци пан Станислав Чарнота сидел тогда в большевистской тюрьме с одним хамом. Арендатор какой-то, мельник или в этом роде. Сидит пан Чарнота да и сокрушается: "Иезу коханый, хоть бы закурить! Все имение тому отпишу, кто даст одну папиросу!.." А тот, что в камере с ним был... Ну, ты его знаешь, Чеся, того, что после в чарнотовом Бернатове паном сидел, - некий Шуляк. Так у этого Шуляка, как на грех, нашлось все - и табак и спички. Пан Чарнота и написал этому хаму...
- Но, мамуся, ведь я все знаю!
- Ничего ты не знаешь! Он написал ему расписку на все имение. Думал, бедняга, что и так и этак пропало. И вот самого его расстреляли через день... Упокой, пане боже, невинную душу! А тот выродок, ты его знаешь, Чеся, того, что после в чарнотовом Бернатове... До самой войны наследники пана Чарноты с ним судились. Вот! А ты мне, Чеся, говоришь!
- Ничего я, мамуся, не говорю. Ты успокойся только, дорогая!..
- Ну, и что ж это вы, пани, к чему? Неужто вы меня с Шуляком равняете? Хоть он и паном был перед войной, а плут плутом. Немцы его, как собаку, расстреляли за гумном. Сам зондерфюрер Шульц пожелал Бернатово забрать. А я, пани, на чужое никогда рот не разевал. Был я раньше хозяином, даст бог, может, и еще буду, хоть на старости лет. Пускай мне только вернут мое сделаю я сам себе социализм. Вы, паненка, сказываете, что там у вас в Польше уже к тому теперь пошло, без колхозов. Может, и сюда докатится, может, бог даст, и тут все станет на место... Вы вот, пани, хаете меня да черните, а я, как перед богом, ни в чем не виноват. То же игрушки одни были: я писал - не ведал, на что пишу, а вы, пани, так же и подписывали. Я ваши расписки давно порвал и на ветер пустил.
- Не лгите, пан Мукосей, побойтесь бога! Да что вам бог?.. И вам, и вашим детям!
- Ой, пани, не грешите и вы! Я не отрекся от бога и не собираюсь.
- Так вот он и покарает за то, что ты ограбил меня, старуху беззащитную! Он не даст меня в обиду!
- Э, пани, чтоб мне с этой табуретки не встать, коли я их не порвал, те ваши расписки! Эх, не с кем было поговорить! Не сказал мне добрый человек в ту дурную минуту: "Не лезь, не марай руки, Мукосей!" И полез. Ну что ж, гореть, коли так, панскому дому в колхозной печи, обжигать кирпичики... А вам в Польше паней не быть: и там до вас мужики доберутся. Бывайте здоровы!
- Бог все видит, Мукосей! Он тебе...
- Но, мамуся!..
- Ты меня, дочка, не учи!
Хлопнула наружная дверь.
12
Чесе и после этого не стало легче. В "мамусе" разбушевался старый, придавленный годами горького молчания панский бес. Она трещала как сорока, старая, с издерганными нервами, извергала на голову этого разбойника, хама и кровососа и панские и хамские проклятья, к которым она, кстати, привыкла еще при своем пане Яне. Заодно с Мукосеем досталось и всем его поганым соотечественникам, всему безбожному большевистскому миру.
А дочь, связанная по рукам своей тайной, могла только успокаивать старуху, уговаривать пойти отдохнуть.
- Я сама все сделаю, - говорила она, как ребенку. - Я, мамуся, сама все улажу. А ты иди, успокойся, поспи...
Когда они обе вышли в дальнюю комнату, Леня вскочил и стал, как по тревоге, одеваться.
Читать дальше