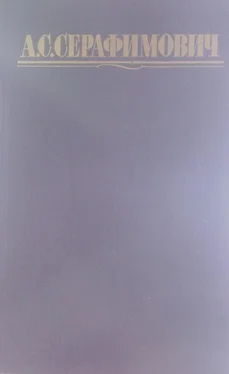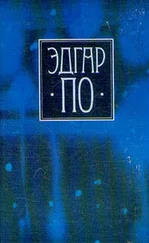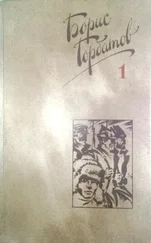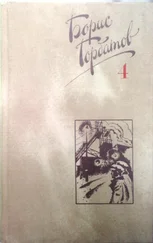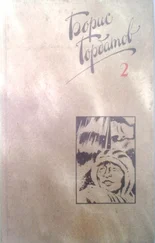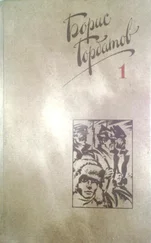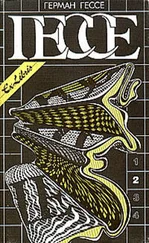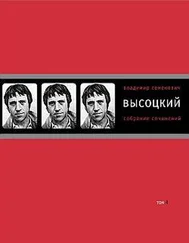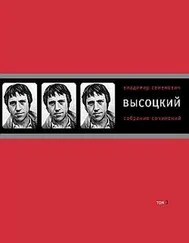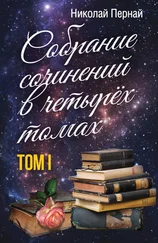Пришла зима, и, крутясь, загудели метели.
День и ночь стал валиться снег, и там, где были расщелины, лощины и промоины, росли сугробы, все сравнивая и покрывая, и лишь голые скалы, обвеваемые ветром, уныло и бесплодно подымались среди снежных полей.
Мертво и пусто сделалось кругом, и никто уже тут не думал о будущем, о счастье, не вспоминал прошлого. Даже птицы и звери спустились ниже, в область сосны, ели и кустарников. А высоко вверху в разреженном пространстве, где стоит вечный холод, так же безучастно неслись перистые облачка, которые состояли из тонких ледяных кристаллов.
Раз перистые облака, предвещавшие всегда мороз, спустились ниже и посинели. Потеплела земля. Пошел от нее туман и пар.
Подул с юга ветер и принес оттепель. Порыхлели и грузно осели снежные сугробы. Просочилась сквозь них натаявшая сверху вода, наделала ходов и стала пробираться по расщелинам осевшей скалы, и зажурчали по всем направлениям невидимые ручейки.
Мертвые снега и немые неподвижные скалы, нависшие отовсюду, с недоверием и враждебностью смотрели на возрождавшуюся жизнь. И когда пахнуло весенним теплом, нахмурились они, белея занесенными снегом расщелинами.
Рыхлый снег стал нарастать шапками, перегибаясь и нависая с обрыва. А тучи клубились у темени горы. И если б кто-нибудь заглянул сюда, он догадался бы, что творится тут недоброе, готовится грозное. Но сюда никто не заглядывал.
Вот поднялось до зенита солнце, и тепло пригрело землю. Накренились снега, не выдержали и рухнули, увлекая за собой обломки скал, гранитные глыбы, тучи гальки и истертого ледниками известняка.
Колоссальной грудой прошел обвал, переворачиваясь в воздухе, и, оставив за собой широкий след, с потрясающим гулом рухнул, и лишь снежное облако закурилось над тем страшным местом. Дрогнули вековые сосны, сронили с ветвей старые иглы, тяжело поднялись с отдаленных вершин орлы, и два охотника, карабкавшиеся у линии вечного снега, оборвались по ледниковой крутизне.
Затаилась пробиравшаяся вода, просочилась сквозь обвал и шумным и веселым ручьем побежала вниз, унося талый снег, который, растаивая, наводнил долину и напоил иссохшую землю, жадно поглощавшую влагу.
Все покрылось зеленью. Везде проснулась жизнь. Но капельки, те первые капельки, которые упали на бесплодный камень, не видели и не слышали этой пробудившейся жизни, и самые имена их безвестно затерялись.
Первую мировую войну пятидесятилетний Серафимович встретил уже закаленным революционером. За плечами была ссылка на Север, жизнь под надзором полиции на Дону, уроки баррикадных боев на Пресне. Вот почему события войны писатель расценивал с позиций революции. Его рассказы, очерки и статьи той поры впоследствии были названы «пораженческими по сути дела» [3] Газ. «Правда». 1933. 20 января.
. Другими словами, они отражали линию ленинской партии по отношению к этой войне. «Революционный класс в реакционной войне не может не желать поражения своему правительству» [4] В.И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 26, стр. 286
, — писал В. И. Ленин в 1915 году.
В атмосфере шовинистического угара и искусственно раздуваемого ура-патриотизма военные власти всячески препятствовали поездкам в действующую армию журналистов либерального и демократического направления. «Представитель печати для власти всегда был бельмом в глазу. Представитель же печати в теперешнюю войну, это — парня, существо, которое надо искоренять всеми мерами, всеми средствами.
И искореняли. Корреспондента на пушечный выстрел не подпускали не только к фронту — к тылу. Было официально допущено на фронт несколько корреспондентов, но их держали в почетном плену, показывали только то, что хотели показать и что никому не нужно было, и требовали одного — прославления гениальности власть предержащих. Железная рука цензуры легла на всю печать...» — писал Серафимович в наброске к первому очерку из Галиции [5] «Отправление н а фронт в Галицию в 1915 году» (ЦГАЛИ)
, куда он, корреспондент «Русских ведомостей», вынужден был отправиться в качестве санитара врачебно-продовольственного отряда, организованного Пироговским обществом врачей. В отряде Серафимович встретился с сестрой милосердия Марией Ильиничной Ульяновой, и общение с ней, несомненно, укрепило антивоенную настроенность писателя. В результате на страницах газеты, несмотря на военную цензуру, появилась большая серия очерков, рисовавших правдивую картину ужаса и бессмысленности империалистической бойни, картину бесцельной гибели сотен и тысяч молодых жизней. Из увиденного писатель делает революционные выводы и устами героя рассказа «Встреча», юноши, искалеченного на войне, прямо говорит: «...Может, надо потерять правую руку, чтобы узнать, чтобы почувствовать зерно истины...» А писатель, размышляя о его судьбе, восклицает. «...Есть жизнь, бьются сердца, и кто знает, как потрясающе будет нарушено тягостное молчанье, с каким страшным грохотом рухнет строй».
Читать дальше