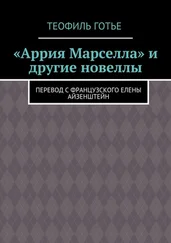Если я сравню Памфиля (так начинал Лабрюйер 9 9 Единственное произведение Лабрюйера – это книга «Характеры» («Caractères»), состоящая из 16 глав.
) с бабочкой, я увижу его сидящим на письменном столе редакции. Он написал против меня статью. Он поднялся. Он полетел к своей любовнице. Но вместо прекрасных крыльев, ничего нет для объятия, кроме остатков двух пудингов в складках карманов его жакета.
Вот моя месть.
Если каждый день мы открываем новые цвета в каменном угле, каждый день подходит, чтобы воспользоваться новым цветом. Так и Универсум, открывающий сам себя, и наше собственное отражение, появляющееся в воде, все более и более полное нюансов. Примитивные растительные формы густы и грубы. Но наш более острый взгляд все понемногу вырезает своими ножницами. И в этом влюбленном взгляде помещается, как между двух грудей, ажурная листва кружева мимозы. Но это старинное кружево. И вы видите, что листья будут изменяться в связи с кружевом, следуя движению завитков.
Мы можем вообразить, с бережливостью потянув кладовку, бочку заплесневело-кислого сидра, грубого и тяжелого; или жаркой ночью – повороты и вращения в постели, полной кусочков чего-то; или еще, под важностью лесной листвы, благородного Гамаша 10 10 Гамаш – персонаж «Дон-Кихота».
в палящий час, когда свадьба не громче крика цикады.
Волшебный Сервантес! Не у него ли, однако, богатств, как у бедняков? И чтобы открыть жемчужину или бриллиант, нужно рыться даже в граммах грубой рудной породы, это уменьшает грызенье крыс, в которых нужно видеть материализовавшихся Камиллу 11 11 Героиня «Дон-Кихота».
, Люсинду, Лотэру, Ансельму, Карденио. Из этой печальной возможности, которая составляет несколько квадратных метров, из сухой и паршивой земли Ла Манша, из песчаной пустыни, проходимой путешественником, говорим мы, без того чтобы появился кто-то, кто может радоваться его виду, там бьют черные каскады зелени, парки, в которых потоки гранатов с длинными лазурными замками, погребенные в свежей листве потоков. В гостинице, где ты лежишь, может быть, о Сервантес, страдающий и обездоленный, на этом задымленном постоялом дворе, ты услышал песню дворянина, замаскированного в мальчика, погонщика мулов, и молодая девушка трепещет от любви, слушая…
Хорошо бы, Бог дал мне твой конец, Дон-Кихот, так как я хочу исчезнуть надлежащим образом. Я хочу умереть в соответствии с католическими обрядами, после существования более мечтательного и менее страдательного. Я хочу, чтобы благословенный лавр украшал мою комнату, в которой достаточно сочувствуют мне, но не слишком по-человечески, таким образом, чтобы те, кто лучше знали меня, доставили радость, отобразившись в моей памяти.
Дети, которые видят своего дедушку, когда он возвращается со встречи во французской академии, затянувшие подобные ремни, никогда сами не озаботятся мыслью о славе. Мы очень смеемся, если видим кролика, одетого листьями капусты, опоясанного наподобие сабли шампуром, странным манером причесавшего баклажановую кожу, и собираемся сидеть перед лицом тридцати девяти кроликов, облаченных так же. Я немного знаю Париж. Иногда я проводил в нем по несколько дней. Но я имел честь встретить академика, которому я очень поверил. Тащил к ёлке и сидел криво, фигура в обороте удлинялась, изможденная, он завершал банальность своей двурогой шляпой. Так же, как цинковый шланг, который ветер терял по горизонтали, сабля стояла, прося благодарности, и искала убежища в глазах, в ноздрях, во рту этого старика, чья грязная рука с кулаком бунтовщика выдыхала за двадцать шагов запах мыла.
О Данте Алигьери, одетый в свое темное платье, о ты, чья нога оставалась преклоненной, чтобы созерцать в Равенне прекрасную продавщицу шафрана или оливы, и ты, Сервантес, одетый, как солдат или деревенский клерк, и ты, Рабле, чьи чулки развалились под ржавой сутаной, и ты, Оноре де Бальзак, кого Роден, изобразил шатавшимся в опьянении мыслей, со складками отвратительного домашнего платья, сколько смеха вызывали вы звучавшим адским склепом, когда видели появление тени этого грязного сына?
Остается добавить: мы должны размышлять о славе, и что она включает? Моя слава – это Леон Мулен, не ищите, он незнаменит, – объявивший мне о смерти своего отца; это Шарль Лакост, и Раймонд Бонер; это Евгений Карьер, сидевший в моем доме, куривший свою трубку и говоривший со мной о вечных вещах; это дети, в болтовню которых я снова вслушиваюсь, и склоняется в полумраке к ним их мать, подобная властной богине-протектрисе. Это Андре Жид, писавший мне: «Как одно твое слово возвращает мне счастье», если бы ты знал, ничто не злит меня, «кроме твоего молчания». Это улыбки женщин, прекрасных, как фрукты.
Читать дальше