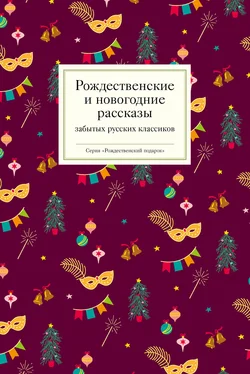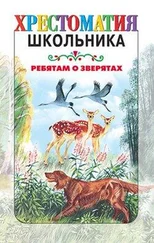Так вот, господа, какое вдруг передо мною, горюном, открылось поприще широкое: двадцать тысяч бумажками! Я, признаюсь, как ни обрадовался такому счастию, однако ж все-таки подумал и догадался, в чем дело, а после опять подумал, порассудил, что у меня иной раз и свечки сальной не на что купить и частенько хожу в оборванном сюртучишке, так тут уж дело известное, какая амбиция! Да и что такое, в самом деле, амбиция, когда тут мне, дураку, оказывают снисхождение люди – вот какие! Что за амбиция перед двадцатью тысячами наличных рублей!.. Прикинул я все это на разум и решился, а когда решился, сами Владимир Андреич – ей-же-ей, не лгу! – сами они заехали ко мне на квартиру, вошли в мою каморку бедную и в мое горькое положение (это случилось вечером), заставили меня надеть фрачишко мой ветхий и прифрантиться, а сами, пока я, знаете, снаряжался, и, разумеется, стыдился, что все это перед такою особой, и конфузился, что каморка моя такая – стульчика крепкого не было и портрет Наполеона висел на стене, а следовало бы быть портрету их самих, Владимира Андреича (только я по бедности не мог подписаться на портрет моего благодетеля), – пока все это со мною делалось, они закурили сигару, вероятно, уж настоящую, и стали трунить надо мною и подсмеиваться, не то чтоб в обиду или в оскорбление, а совершенно особым, милостивым и до крайности отеческим образом, так что у меня все жилки заходили от умиления… Я тут-то и подумал, что вот вы, тамошние, важные и очень важные, посмотрели бы вы, как тут со мною сами Владимир Андреич, пред которым вы гнетесь в три погибели, посмотрели бы и что бы вы подумали? Подумали бы, что вот человек вышел на свою дорогу, что Переулков начинает свою карьеру, что нечего теперь глумиться над Переулковым и спрашивать, по какому это вы случаю, господин Переулков, такого достигли уважительного звания… Ну, знаете, многое очень лестное пришло мне в голову, так что уж я подумал, что и в самом-то деле, чем я не гожусь в приятели Владимиру Андреичу…
Когда я снарядился во что Бог послал, Владимир Андреич повезли меня в своей собственной карете на Вознесенский проспект. Там карета остановилась у какого-то дома (теперь, впрочем, я его хорошо знаю), и мы вошли по парадной лестнице, освещенной газом, в квартиру сироты, опекаемой Владимиром Андреичем. Квартира была в четвертом этаже, но что за квартира! Я только в трактире у Палкина видел такое великолепие, как в этой квартире, нечего и говорить, что полы паркетные – это пустяки, а обои-то, обои какие – все бархатные: в одной комнате золотые, в другой зеленые, в третьей, как жар, красные; а мёбель, мёбель – сам черт выдумывал такую мёбель! – стыдно и совестно сесть на какую-нибудь там табуретку или в кресло; а зеркала, а вазы с цветами, а занавески на окнах и дверях, да и дверей-то не было, а так просто одна занавесь, дернешь за шнурок – она и откроется, и ступай дальше; там опять то же, там опять; а там уж и очутишься в огненной комнате, где все: и цветы, и подушки, и собачки, и занавески, и серебряные подсвечники и матовые лампы, и кушетка – и моя невеста!
Господа! Если б вы видели мою невесту… Я отроду не видал таких красавиц! Конечно, по Невскому можно встретить, но там, знаете, магазины; а в магазинах ленты, звезды, портреты знатных обоего пола особ; поневоле развлечешься и не обратишь внимания – хозяйки же у меня были все сварливые и до крайности почтенные женщины; а у нашей братьи жены и сестры и племянницы, вы знаете, тоже хозяйки в некотором смысле: есть полненькие, кругленькие и как будто любезные – да куда! Ни одеться так не умеют, ни огненной комнаты не имеют, а поговорить – что и говорить! Конечно, если насчет дров и Сенной площади, насчет того, как блины приготовить и где башмаки дешевле купить, – в этом нужно им отдать справедливость – в Семеновском полку могут перещеголять Надежду Львовну, но зато уж в чем другом, знаете, насчет деликатностей, приятности в обхождении, они перед нею пас.
Владимир Андреич отрекомендовал меня Надежде Львовне как своего друга и сослуживца (ей-же-ей, не лгу!). Я, разумеется, не беру на себя лишнего – не очень-то разговорчив и ловок с женщинами… Я как сел на диване, так и прирос к дивану; глаза у меня растерялись, и язык примерз… а она тут все около меня, знаете… говорит со мною, да вдруг так пристально взглянет на меня, что во мне вся душа задрожит, – чуть не пропал я в тот вечер; не помню, что я говорил, тогда, кажется, только и говорил, что «да» и «нет-с», а они между собою все говорили, и даже Владимир Андреич за меня отвечал несколько раз, когда она вдруг было что-нибудь спросит у меня – живая такая; а глаза… как взглянет на вас вдруг, так и обдаст жаром; уж я краснел, краснел и так досадовал, что не знал приличного обхождения. Однако ж ничего. Она вовсе не замечала, какой на меня столбняк напал, и пригласила меня с собою в театр. Можете представить! Я взглянул на Владимира Андреевича, и он сказал мне: «Как же, как же! Я довезу вас» – и точно, в семь часов покатили мы все втроем в Большой театр. Ни словечка я там понять не мог, притом же растерялся до крайности: Владимир Андреич ушел в кресла, а мы остались в ложе в третьем ярусе. Надежда Львовна почти беспрерывно говорила со мною, а я сижу себе как пень, не знаю, как тут быть… ну, да уж заодно и рубну что-нибудь с плеча – ну, словом, был в таком отчаянном положении, что рад был, рад, когда по окончании оперы пришли Владимир Андреич да и отпустили меня, а сама Надежда Львовна просила меня пожаловать вместе с Владимиром Андреичем через день, кажется, обедать. Тут уж, господа, на третий день я немножко освоился с своим положением, а может быть, и не освоился бы, если б не помогал тут Владимир Андреич.
Читать дальше