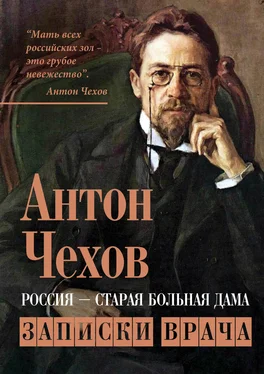На кафедрах у нас сидят заики и шептуны, которых можно слушать и понимать, только приспособившись к ним, на литературных вечерах дозволяется читать даже очень плохо, так как публика давно уже привыкла к этому, и когда читает свои стихи какой-нибудь поэт, то она не слушает, а только смотрит.
Ходит анекдот про некоего капитана, который будто бы, когда его товарища опускали в могилу, собирался прочесть длинную речь, но выговорил «будь здоров!», крякнул – и больше ничего не сказал. Нечто подобное рассказывают про почтенного В. В. Стасова, который несколько лет назад в Клубе художников, желая прочесть лекцию, минут пять изображал из себя молчаливую, смущенную статую; постоял на эстраде, помялся, да с тем и ушел, не сказав ни одного слова. А сколько анекдотов можно было бы рассказать про адвокатов, вызывавших своим косноязычием смех даже у подсудимого, про жрецов науки, которые «изводили» своих слушателей и в конце концов возбуждали к науке полнейшее отвращение.
Мы люди бесстрастные, скучные; в наших жилах давно уже запеклась кровь от скуки. Мы не гоняемся за наслаждениями и не ищем их, и нас поэтому нисколько не тревожит, что мы, равнодушные к ораторскому искусству, лишаем себя одного из высших и благороднейших наслаждений, доступных человеку. Но если не хочется наслаждаться, то по крайней мере не мешало бы вспомнить, что во все времена богатство языка и ораторское искусство шли рядом. В обществе, где презирается истинное красноречие, царят риторика, ханжество слова или пошлое краснобайство. И в древности, и в новейшее время ораторство было одним из сильнейших рычагов культуры. Немыслимо, чтобы проповедник новой религии не был в то же время и увлекательным оратором.
Все лучшие государственные люди в эпоху процветания государств, лучшие философы, поэты, реформаторы были в то же время и лучшими ораторами. «Цветами» красноречия был усыпан путь ко всякой карьере, и искусство говорить считалось обязательным. Быть может, и мы когда-нибудь дождемся, что наши юристы, профессора и вообще должностные лица, обязанные по службе говорить не только учено, но и вразумительно и красиво, не станут оправдываться тем, что они «не умеют» говорить.
В сущности ведь для интеллигентного человека дурно говорить должно бы считаться таким же неприличием, как не уметь читать и писать, и в деле образования и воспитания – обучение красноречию следовало бы считать неизбежным.
24 ноября. Двенадцатый час…
Публика молчаливо ждет, но ожидание это не томительно, потому что все внимание сосредоточено на прелестях заново ремонтированной Екатерининской залы. В отношении пространства, света, воздуха и шика эта зала не оставляет желать ничего лучшего.
Газетчикам ужасно холодно. Столы их расположены между холодными колоннами, как раз перед окнами, откуда несет холодом, как из погреба. Слышны остроты насчет холодных, не столь отдаленных мест и жалобы на нелюбезность… зимы, заставившей мерзнуть ни в чем не повинных людей. Газетчики синеют… Немудрено, если к завтрему половина из них заболеет ревматизмом и крапивной лихорадкой.
Ниже судейского стола – площадка с длинным столом для защиты, стол для вещественных доказательств и подкова для свидетелей. Тут вы видите людей, речи которых будут переводиться через тысячи лет, как мы переводим теперь Демосфенов и Цицеронов. Гражданский истец Ф. Н. Плевако сидит отдельно, за особым пюпитром, и сурово поглядывает на публику…
На столе вещественных доказательств целая «скопинская библиотека»… Если во всем Скопине наберется столько же книг, сколько на этом столе, то за скопинцев можно порадоваться: цивилизация их в шляпе.
Публики, сверх ожидания, мало. Выдано 500 билетов, а между тем занято не более 300 мест… Дам в пять раз больше мужчин. Бухгалтерии дамы не знают и дела, конечно, не поймут, но они пришли не понимать, а созерцать… Их бинокли бегают по лицам, как испуганные мыши…
– Палата идет! – слышится возглас судебного пристава.
Адвокаты, секретари и корреспонденты торопливо занимают свои места… Публика поднимается…
Дверь снова отворяется, и в залу входят двадцать человек, которые после минутной толкотни и замешательства занимают места за белой решеткой. Самому старшему из них 72 года, самому младшему – 29. Один из них, Барабанов, слеп, что, впрочем, не мешало ему быть во дни Рыкова членом ревизионной комиссии. (То-то, небось, рад был, что не видел!)
Читать дальше