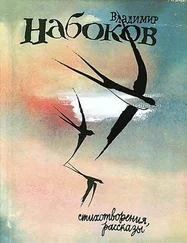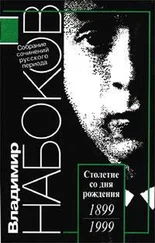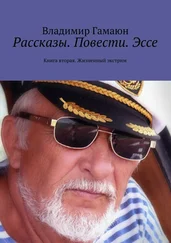— Возьми меня, мою чистоту, мое страдание… Я твоя. Твое одиночество — мое одиночество, и как бы долго или кратко ты ни любил меня, я готова на все, ибо вокруг нас весна зовет к человечности и добру, ибо твердь и небеса блещут божественной красотой, ибо я тебя люблю…
— Сильное место, — сказал Евфратский. — Очень сильное.
— Что — не скучно? — спросил Илья Борисович, взглянув поверх роговых очков. — А? Вы прямо скажите…
— Она, вероятно, ему отдастся, — предположил Евфратский.
— Мимо, читатель, мимо, — ответил Илья Борисович (в смысле «пальцем в небо»), улыбнулся не без лукавства, слегка встряхнул рукописью, поудобнее скрестил полные ляжки и продолжал чтение.
Он читал Евфратскому роман небольшими порциями по мере производства. Евфратский, как-то раз нагрянувший к нему по случаю концерта, на который продавал билеты, был журналист с именем — вернее, с дюжиной псевдонимов: до тех пор Илья Борисович водил знакомство только в немецкой индустриальной среде, но уже теперь, посещая собрания, доклады, мелкие спектакли, знал в лицо кое-кого из так называемой пишущей братии, с Евфратским же очень подружился и ценил мнение его, как стилиста, хотя стиль у Евфратского был известно какой: злободневный. Илья Борисович часто звал его к себе, они пили коньяк и говорили о литературе — точнее, говорил хозяин, а гость жадно копил впечатления, чтобы потом ими развлекать приятелей. Правда, в литературе у Ильи Борисовича был вкус несколько тяжеловатый. Пушкина он, конечно, признавал, но знал его более по операм, вообще находил его «олимпически спокойным и неспособным волновать». Из всей поэзии он наизусть помнил только «Море» Вейнберга и одно стихотворение Скитальца, где рифмуется «повешен» и «замешан». Любил ли Илья Борисович подтрунить над декадентами? Да, любил, но ведь, с другой стороны, он сам честно оговаривался, что в стихах мало смыслит. Зато о русской прозе он рассуждал охотно, с жаром — уважал Лугового, ценил Короленко, находил, что Арцыбашев развращает молодежь… О беллетристике поновее он говорил, разводя руками: «Скучно пишут!», чем повергал Евфратского в какой-то тихий экстаз.
— Писатель должен быть с душой, — твердил Илья Борисович, — участлив, отзывчив, справедлив. Я может быть пустяк, ничтожество, но у меня есть свое кредо. Пускай хоть одно мое писательское слово западет кому-нибудь в душу… — И Евфратский мутными глазами смотрел на него, предвкушая с мучительной нежностью завтрашний мимический пересказ, утробный гогот того, чревовещательный писк этого…
И вот настал день, когда черновик романа был окончен. На предложение Евфратского пойти посидеть в кафе Илья Борисович ответил с таинственной вескостью: — Не могу. Я полирую слог.
Полировка состояла в том, что, ополчившись на слово «молодая», попадавшееся слишком часто, он заменил его там и сям словом «юная», которое произносил как будто в нем два «эн»; «юнная».
Через день, вечером, в кафе. Красный диванчик. Двое. По виду скажешь: дельцы. Один — солидный, осанистый, некурящий, с выражением доброты и доверия на полном лице; другой — тощий, густобровый, с двумя брезгливыми складками, идущими от рысьих ноздрей к опущенным углам рта, из которого косо торчит еще незажженная папироса. Тихий голос первого:
— Конец я написал одним порывом. Он умирает, да, умирает…
Молчание. Красный диванчик мягок. За окном проплывает, как рыба в аквариуме, насквозь освещенный трамвай.
Евфратский щелкнул зажигалкой, выпустил дмм из ноздрей и сказал:
— А почему бы вам, Илья Борисович, до выхода романа отдельным изданием, не пропустить его через журнал?
— Я же не имею протекций… Кто возьмет? Печатают все одних и тех же.
— Пустяки. У меня есть идейка, но ее еще надо хорошенько обмозговать.
— Я бы с радостью… — мечтательно произнес Илья Борисович.
Еще через несколько дней, в кабинете у Ильи Борисовича, изложение идейки:
— Пошлите вашу вещь, — Евфратский прищурился и вполголоса докончил: — «Ариону».
— «Ариону»? — переспросил Илья Борисович, нервно погладив рукопись.
— Ничего страшного. Название журнала. Неужели не знаете? Ай-я-яй! Первая книжка вышла весной, осенью выйдет вторая. Нужно немножко следить за литературой, Илья Борисович. — Как же так — просто послать?
— Ну да, в Париж, редактору. Уж имя-то Галатова вы, небось, знаете?
Илья Борисович виновато пожал толстым плечом. Евфратский, морщась, объяснил: беллетрист, новые формы, мастерство, сложная конструкция, русский Джойс… — Джойс, — смиренно повторил Илья Борисович. — Сперва дайте перестукать, — сказал Евфратский. — И, пожалуйста, ознакомьтесь с журналом.
Читать дальше