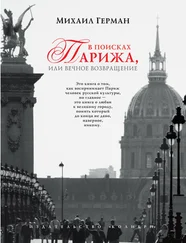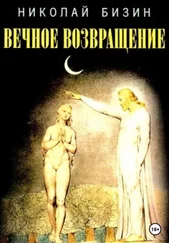– Да ну?!..
– Да, ну войдите же! – в третий раз нетерпеливо повторяет Андрей Петрович.
Из коридора опахивает ветром, тяжелые тучи дыма чуть-чуть раздвигаются. Входит Клавдия Дмитриевна.
– У больного, которого вчера оперировали, началась рвота.
Она говорит запинаясь, не глядя на профессора. Андрей Петрович поднимается и отряхивает брюки, сбившиеся в коленках.
– Давно рвет?
Сестра должна отвечать на прямо поставленный вопрос.
– Не знаю… Я была в первом этаже, а няня уснула.
Овечкин подпрыгивает на диване:
– Как уснула? Почему уснула?
– Спросите ее сами, товарищ Овечкин!
Клавочка сердится, надувает губки, и термометр в верхнем кармане поднимается к самому ее подбородку.
На плече у Андрея Петровича халат. Он переброшен небрежно, как дождевик.
– А судороги вы не заметили?
– Нет, как будто…
– Хорошо. Грелки приготовьте и термоформы. Мы сейчас придем. Подушку из-под головы больного убрать.
Клавдия Дмитриевна в последний раз смотрит на Овечкина: «Ведь завтра пришлешь записку вместе с рецептами, а я не прощу, ни за что не прощу!..»
Дым в комнате, парусиновые портьеры, тусклое небо за стеклом – все одноцветно, все серо. Убогий колорит. Хотя бы птица пролетела, хоть бы догадался кто бросить комом снега в окно!
– Возьмите мускус, эфир и поваренную соль. Шприц в шкафу?
Андрей Петрович открывает продолговатый футляр.
– Иголку пора бы переменить, – и он нацеливается, сощурив один глаз, на волосок. Спокойный, немигающий глаз профессионала.
Овечкин рассовывает склянки по карманам.
– Ну, и как же? – спрашивает он, проверяя притертую пробку.
– Что «как же»?.. Вы готовы?
– Я о вашей истории… Чем она кончилась?
Андрей Петрович захлопывает футляр, как табакерку. Вопрос кажется ему неуместным.
– Чем кончилось? Да ничем. Похоронили в один день… Вы вот лучше камфарное масло на столе не забудьте. И… пожалуйста поскорей, товарищ Овечкин!
Родился в 1895 г. в Санкт-Петербурге. Учился на филологическом факультете Петербургского университета. В годы гражданской войны служил в Красной армии. Умер в 1963 г. в Ленинграде. Автор романов «Преступление Кирика Руденко», «Это было в Коканде», «Северная Аврора» и др. Входил в группу «Серапионовы братья».
В рыжую вянет малина у хлева, зацепилось небо за забор, как свежая шкура, и за забором в холоде твердеет песок, и непонятные, нежитые, сухие томят землю хвои, – люди про это говорят: тоска… И никогда не пойму этого леса.
Лес – изумруд и радость. А хвоя – хвою надо сыпать на гроб и на смертный путь.
Куда пойдешь? В бору – песок, игла и мох. Его легко сковырнуть пяткой, и под губкой мха опять песок.
Мы живем на горе. Под горой в длинном поле – город. В городе – каланча, исполком и у собора могила жертв революции.
Утром – сырая мгла, к ночи – дождь, а с пяти вечера с неба падает кусками деготь, липнет к воде, к песку, к окнам – и такая кругом темь, что теряешь ноги. В город нам ходить не-зачем.
Так живем.
Вчера у реки под откосом – там, где в отмели вечно лежат два челнока, нашел черные ямы костров, паклю, пропитанную керосином, поленья, лужу крови и нож. Наверное, прошлой ночью у реки в ямах гнали из хлеба спирт. Откуда кровь – не знаю. Знаю одно: в деревнях, а их в округе семьсот – гонят водку. И еще – русскому человеку без ножа скучно.
Знаю – зачем живу здесь. Нужно мне тишину. Вот почему живу в пустыне: песок, мох, лес, вода.
Комнаты топят тепло, как в бане. Сижу – расстегнутый. Бревна сохраняют тепло, тишину и рожают комаров. К ночи комары начинают зудеть и мешать. Возьмешь книжку, а книжка летит. Ну и лети, не тронь, не пугай тишины.
Через полчаса придет хозяйка Афимья, плеснет в меня рыхлой калуцкой речью, обольет ею, что зеленью.
– Чай кушать пожалуйте.
Будем долго сидеть – у стола – за камчатной скатертной, за белым хозяйским хлебом, пить чай с кислой калиною. Самовар мурчит, под столом тычется в ноги Барс-кошка. Кинешь хлеба ему – станет шипеть, рвать, играться. И стенные часы пропоют длинно, неторопливо в три такта каждую четверть.
Будем долго сидеть – и молчать. Ведь не знаем – что сказать и о чем… Ведь мы гости из разных стран, разной души и разной веры. Моя – напичканная, книжная душа. А ее душу не словишь, легче голой рукой поймать угря.
Сижу и смотрю.
Крепкий, как ядрышко, дом. Афимья – домашняя баба, здоровая, с хрустом, как кочан на морозе. Капот на ней в клетку, сытый, круглый живот, скользкие губы поджала. Наверно, рот мокрый.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу