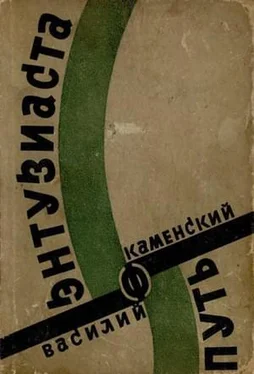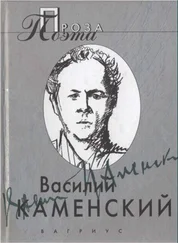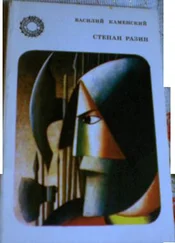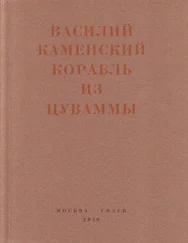Вот с этой поры всю силу любви отдал Каме и так горячо сдружился с ней, что дороже Камы ничего не было у меня на свете.
Как бурный приток, я втекал в ее воды и это стало теченьем счастья.
Это наполнило берега моей жизни несказанным величием бодрости и слияньем с миром окружающим.
Да! Не знаю: быть может я вырос настолько, что за спиной, как окрепший голубь, крылья почуял, но Кама вот вдруг воротами распахнулась и тут понял всю неисчерпаемую ее щедрость и призывающие объятья.
Это Кама, у ночного костра за чайником, рассказывала мне, начинающему смешному рыбаку, удивительную повесть о том, что Пушкин и Колумб, Гоголь и Эдиссон, Некрасов и Гарибальди в свое время были такими же, как я, мальчиками, но выросли, много учились, много знали, много работали, много боролись и вот сумели стать великими.
В те малые годы я достаточно знал об этих великих, с раскалённой жадностью упивался книгами, заучивал наизусть Пушкина, Лермонтова, Некрасова (до всех и до всего доходил сам головой, т. к. никто ничему меня не учил и никто ни капли мной не занимался), читал с удовольствием вслух матросам стихи, смешил всех своей будоражной энергией, нелепыми фантазиями, дикими, будто ветер шальной, порывами в неизвестность.
И, главное, никогда не обижался, если меня совершенно не понимали и моих изобретений не ценили.
За всё свое детство и юность я не помню единого случая, чтобы меня за что либо, хотя бы нечаянно, похвалили.
Я же изо всех сил старался для всех сделать, выдумать что-нибудь приятное, удивляющее, но увы..
Сиротство обрекло на полное одиночество.
Всегда я стоял, как отодвинутый стул, в стороне.
Однако, это сиротское положение не мешало мне видеть с иного берега жизнь и быть затейником в веселых играх на широком дворе, на пристани, на раздольной Каме.
Ах, эта Кама!
Единственная, как солнце, любимая река, мою мать заменившая, она светила, грела, утешала, призывала, дарила, забавляла, катала, волновала, купала, учила.
И маленькому сыну своему обещала гуще прибавить крепких, здоровых, привольных дней, чтобы вырос он ядрёным, толковым парнем.
Напролет всю ночь на пристани выла собака.
Говорили – не к добру это.
В эту ночь мы за Камой рыбачили.
Не везло: дул северный ветер, рыба не клевала.
Вернулись домой, слышим плач: больной дядя Гриша, мой воспитатель, умер.
Собрался народ, матросы, служащие пристани, все молча хлопочут, потом священники, панихиды, ладан, слезы, похороны.
И как-то разом изменилась жизнь.
Со стороны одной – печаль, жалко дядю Гришу, а с другой – радость освобожденья.
Путь самостоятельности.
Юношеский возраст, ощущенье силы, выпирающая энергия, действующая воля, радужные переливы разума, большая начитанность, – всё это призывало отныне изменить жизнь так, как этого давно хотелось.
Кстати – хамские хозяева – миллионеры Любимовы за то, что дядя Гриша честно прослужил им слишком тридцать лет, оставили семью Трущовых не только без средств, но предложили освободить дом – выметайся и только.
Мне пришлось оставить дальнейшее учение и я поступил, нужды ради, на службу в главную бухгалтерию пермской железной дороги.
Было нестерпимо больно расставаться с Камой, пристанью, пароходами, баржами, лодками, канатами, якорями, плотами, лабазами, товарами, горой, сеновалом, рыбами.
Не верилось, что мы покидаем насиженный дом-гнездо, где бытовало прибрежное детство, где мы росли вместе с ёлками, пихтами, тополями, травой.
Где я тайно писал стихи, где мечтал у окна, взирая на камское раздолье, где читал с упоеньем последнее время Майн-Вида, Жюль-Верна, Купера, Сервантеса, Пржевальского.
Где оставил друзей – матросов, грузчиков, водоливов, капитанов.
Где с горячей страстностью рыбачил.
Где ловил певчих птиц.
Где зимовал, летовал.
И вот всё это – неисчислимое, незабываемое, неувядаемое, радостное и горестное – прощай!
Прощай навеки.
Пришла новая полоса жизни: мы переехали в город, мы теперь стали городскими, уличными, мелко-квартирными, обиженными, покрытыми пылью мостовых.
Некоторые сослуживцы меня стали звать – Василий Васильевич.
Я стал личностью, почти взрослым человеком, к которому серьёзно обращаются люди с бородами.
Мне отвели стол, бумаги, счеты, мне как всем 20-го платят жалованье.
Я стал ходить с бумагами по коридорам управления, чтобы брать нужные справки в разных отделах.
Словом стал конторщиком, каких много.
Читать дальше