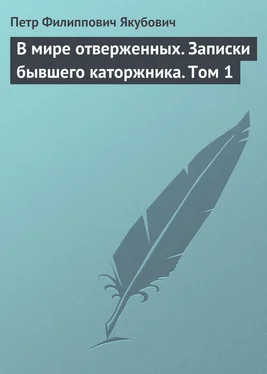И все-таки, еще раз повторяю, я всегда чувствовал радость, когда проходила поверка и нас запирали на замок.
Подбором своих сожителей, за малыми исключениями, я был вполне доволен. Большего эти люди не могли мне дать, и смешно было бы на них сетовать за это. Отношения между нами с самого начала установились дружеские. В первые же дни знакомства у меня явилась мысль обучать желающих грамоте. Едва я высказал однажды — полушутя, полусерьезно — это желание, как экспансивный Никифор Буренков сорвался с нар и, подбегая ко мне, закричал:
— Вот хорошо-то будет! Я, знаешь, Миколаич, давно уж просить тебя хочу, да все не смею… А ты сам надумал… Эхма! да я сразу всю грамоту произойду, дьявол ее побери! Приду домой — диву все дадутся: неужто это Микишка? Тот ведь ни аза в глаза не знал, а этот… И знаешь что, Миколаич? Ты выучи меня и рихметике также… Счет мне знать хочется… Я там у них писарем буду — вот окручу-то всех!
Я отвечал Буренкову, что учиться надо не для окручивания людей, а, напротив того, для выкручиванья их из сетей темноты и всяческой неправды. Никифор сконфузился и поспешил уверить меня, что это он «так только, пошутил».
Этот человек был настоящее «дитя природы»; такого неуменья затаить хоть на минуту бродящую внутри мысль или чувство я не встречал в другом человеке. Лицо его было лучшим зеркалом его души. Высокий, костлявый, он весь был — страсть и огонь; порывистые движения, постоянно веселый нрав, остроумие, незлопамятность, легкомыслие делали его всеобщим любимцем. В больших серых глазах его и тонких губах, оттененных длинными мягкими усами и желтой козлиной бородкой, светилось, правда, и некоторое лукавство. Он сам иначе не говорил про себя, как «мы, мошенники»… Но стоило немного присмотреться к Никифору, чтобы убедиться, что он не только хороший товарищ во всякого рода «фартовых» предприятиях, но также и рубаха-парень. Он был из «семейских» Верхнеудинского округа староверов беспоповского толка; но раннее знакомство с приисками и природная склонность к товариществу и молодечеству превратили его в одного из героев больших дорог, специальность которых — срезывать чаи в обозах. За это и пошел он с двоюродным своим братом Михайлой в каторгу на четыре года.
Вся камера живейшим образом заинтересовалась мыслью об устройстве школы. Старики подталкивали более молодых, побуждая учиться. Процент грамотных ничтожен в тюрьме. В нашей камере грамотных оказалось всего трое: Семенов, Парамон Малахов и некто Владимиров. Но были и такие камеры, где царила, поголовная безграмотность. Я спросил, кто еще станет учиться. На некоторых лицах читалось страстное желание объявиться, но все молчали.
— Ты, Пестрев, чего же? — кричали на одного совсем молодого паренька, вялого, молчаливого и конфузливого.
— У меня, братцы, память плохая.
— Вот сказал! У нас, что ль, лучше, у стариков? Кому и учиться, как не тебе? Парню девятнадцать лет, в самом что ни на есть соку.
— Так будете учиться, Пестрев?
— Хотелось бы… Только память, ей-богу, ничего не стоит.
— Ничего, посмотрим.
— А как же мы учиться-то станем? — вскрикнул вдруг Никифор. — Ведь ни карандашей, ни чернил, ни гумаги у нас нет! Ах ты, распостылая тюрьма! Все-то запрещено, ничего-то нет!..
И от бурной радости он вдруг перешел к самому мрачному отчаянию. Я и сам призадумался. Книжка, положим, была — Евангелие; бумага тоже была: эконом продавал арестантам для куренья махорки серую писчую бумагу, причем, следуя инструкции, запрещавшей в тюрьме письменные принадлежности, разрезал ее на уродливо-неправильные полосы. Труднее было придумать, где и как достать карандаш. Парамон Малахов, необыкновенно важно сосавший на нарах свою трубку и о чем-то долго размышлявший, вдруг ударил себя кулаком по лбу и закричал:
— Не будь я Парамон Малахов, коли не достану!..
— Чего?
— И карандаш и… азбучку. Пускай у Шестиглазого шесть глаз, пускай даже больше будет, достану. Надейся, Никишка, на Парамона!
Однако долго не удавалось ему исполнить свою похвальбу. Он ходил бондарничать в столярную мастерскую, находившуюся за оградой тюрьмы, и всякий раз, как возвращался с работы, Буренков и Пестрев приставали к нему с расспросами… Красавец бондарь разводил только руками и пожимал плечами:
— Ну да уж все-таки достану. Придет такая точка. Не бывало еще, чтоб Парамона хлопушей звали!
Между тем мне пришло в голову воспользоваться углем. Никифор достал прекрасный длинный уголь; я заострил его и начертил на махорочной бумаге несколько первых печатных букв. Восторгам учеников конца не было. Вечером, только что прошла поверка и заперли камеру, все гурьбой бросились, к столу… и обступили меня с Никифором и Пестровым. Лицо первого из них сияло, как хорошо вычищенный медный таз; и с него и с Пестрова уже градом лил пот, хотя ученье еще и не начиналось: оба страшно трусили…
Читать дальше