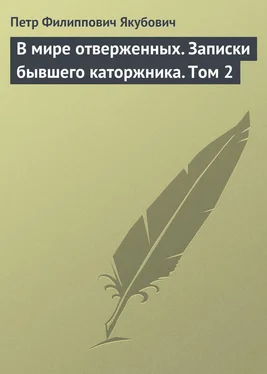Под судом я сидел целый год, и только в мае восемьдесят седьмого года меня приговорили наконец на год и четыре месяца к рабочему дому, но последний был заменен одиночным заключением; товарищ же мой Брусницын, как совершеннолетний, был осужден на четыре года в арестантские роты и отослан в Архангельск. Срок свой я отбыл в новой старорусской тюрьме, тогда только что построенной по образцу Дома предварительного заключения в Петербурге. Арестантам полагалась обычная скидка, но одиночное заключение строго не выполнялось. Тем не менее о старой тюрьме приходилось от души пожалеть, так как здесь не позволяли есть своей пищи, не позволяли иметь даже чай-сахар, а о табаке уж и говорить нечего: за одно имя его грозила неделя темного карцера… Словом, порядки были очень строгие, и те самые арестант ты, мои сожители по старой тюрьме, которым, казалось, и сам черт был не брат, веди себя здесь тише воды ниже травы, ломали шапку перед каждым надзирателем, а смотрителю положительно готовы были лизать руки. Но, как это и бывает со многими молодыми людьми, которых не укатали еще крутые горки, я начал свою арестантскую карьеру не тихим и робким поведением, а, напротив, дерзостью своей удивлял не только товарищей, но и само начальство. Со смотрителем я столько раз ругался, что он уставал сажать меня в карцер. Но я задумал еще и другое. Однажды по тюрьме пронесся слух, что к нам приедет один из великих князей. Смешно даже рассказывать, какая поднялась суматоха, как струсил смотритель и надзиратели. Меня из карцера перевели тотчас же в общую камеру, куда посадили еще пятерых несовершеннолетних крестьян, арестованных за порубку леса — кто на две недели, кто на месяц. В одиннадцать часов утра к тюрьме подкатило пять троек, и из них вышли великий князь и вся военная и гражданская власть города. Наш номер был первый от входа, и к нам зашли прежде всего. Войдя, великий князь вежливо поздоровался, но, кроме меня, никто не знал даже, как следует его назвать, и потому отвечал ему один я. Просмотрев у всех билеты, он обратился к нам с вопросом, нет ли у нас каких жалоб. Тут я и выступил вперед: Я показал хлеб, которым нас кормили и который был наполовину с песком, показал наш общий бак, в котором подавался и обед и держалась день и ночь вода для питья, так что ее нельзя было пить от постоянного запаха гнилой капусты; я жаловался, что арестантам не дают кипятку, и в заключение сказал: «Не обращайте, ваше высочество; внимания на то, что в кухне вам подадут сегодня для пробы вкусный обед. Это делается только на один день, а завтра опять нас будут кормить гнилой капустой и тухлым мясом». С любопытством выслушав мой рассказ, великий князь обратился к смотрителю с вопросом, правда ли все это, но тот с перепугу только и мог сказать: «Ваше превосходительство!», и, смешавшись окончательно, замолчал. За него ответил что-то губернский прокурор, а великий князь в гневе вышел вон.
Все тотчас же переменилось. Смотритель поступил новый, кормить арестантов стали лучше, даже с воли начали все пропускать… Но я, не удовольствовавшись этим, удалил еще и старшего надзирателя, Василия Александровича. Собственно, это был добрый человек, но пьяница и в пьяном виде проделывал большие жестокости: для забавы он бил арестантов ключом и любил ставить, кроме того, головные банки, то есть забирал в один кулак волосы с макушки и, крепко натянув, ударял другой рукой по кулаку… Эта жестокая пытка была любимым его развлечением, и ради него он не дозволял арестантам стричься. Однажды, играя с арестантами, я слегка зашиб себе до крови голову, и вот, пользуясь этим случаем, как только зашел в мою камеру Василий Александрович и сказал: «Давай-ка, Мишка, волосы!» — я стрелой кинулся вон и побежал прямо к доктору, которому и заявил, что старший надзиратель ключом пробил мне голову… Доктор пришел в такое негодование, что, перевязав мне ранку, послал сейчас же за смотрителем и в присутствии его составил протокол. Говорили даже, что старшего отдадут под суд, но под суд его не отдали, так как он был дворянин, а только выключили в тот же день со службы.
Так незаметно окончился срок моего исправления (а вернее было бы сказать, развращения), и в апреле восемьдесят восьмого года я вышел из тюрьмы. За мной приехала мать и привезла с собой новую одежду, так как за два года я порядочно вырос и прежняя уже не годилась. Мы в тот же день поехали в Петербург. Отца застали еще в постели. При входе моем он поднялся и ласково поздоровался — в этот раз он вполне верил в мою невиновность. Он тотчас же предложили мне заведовать по-прежнему своей торговлей, и я с жаром ухватился за это предложение. Я должен вам сказать, Что, несмотря на всю свою развращенность, сидя в тюрьме, я много размышлял о своем прошлом и будущем и пришел к тому убеждению, что лучше всего на свете честный труд и кусок хлеба, заработанный с чистой совестью. И я думаю, что если бы люди были развитее и добрее, если бы они несколько иначе глядели на вещи и по-человечески, относились к тем, кто однажды сделал ошибку, то мое решение пойти по хорошему пути было бы не пустой мечтой. Но люди были не таковы, и при первой же попытке моей сблизиться с ними я получил ужасный нравственный толчок, какого никогда не ожидал: никто не только не подал мне руки помощи и доброго совета, чтобы удалить от прошлого и его грязных дел, а, напротив, каждый, казалось, спешил глубже толкнуть меня в пропасть преступления и разврата, так, чтобы я не мог уже остановиться и опомниться… Простите мне за эту философию, но слишком уж много пришлось мне тогда выстрадать, чтобы я мог теперь спокойно вспоминать и рассказывать. С первых же дней, как я стал за прилавок, я заметил, что отношение ко мне родных и знакомых совсем уже не то, что было прежде. Каждое их слово, каждая улыбка говорили мне о презрении, о желании уязвить меня, оскорбить, и это желание чудилось мне даже там, где его, быть может, и не было вовсе. И при всяком посещении магазина каким-нибудь знакомым меня бросало то в жар, то в холод; от одного взгляда этих людей я приходил в ярость и готов был на все… Это состояние начало наконец повторяться со мной так часто, что во избежание какого-нибудь безумного поступка я решил объясниться с отцом и умолять его отставить меня хоть на время от торговли. Его сильно удивило мое решение; не дав мне договорить, он сказал, что следовало гораздо раньше, еще два года тому назад, обо всем этом подумать и что если мне не стыдно было в тюрьму попадать, так не должно быть стыдно и в глаза людям глядеть. Словом, я увидал со стороны отца полное непонимание моей. душевной смуты; тем не менее я наотрез отказался продолжать ходить в лавку. Отец вспылил и хотел было поднять на меня руку, но он увидал в глазах моих что-то такое, что заставило его остановиться: перед ним стоял уже не прежний забитый и запуганный мальчик, а юноша, в котором пробудились совесть и сознание собственного достоинства…
Читать дальше