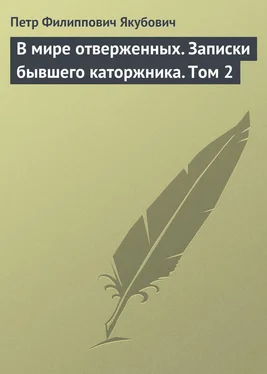Каким образом попал он в это утро в тюрьму, получил ли дозволение Шестиглазого, решился ли самовольно проникнуть в потерянный эдем, об этом мы так и не узнали никогда; как бы то ни было, но Ломов достиг своей цели и был, вероятно, вполне доволен собою. Нельзя, впрочем, сказать, чтоб и я не чувствовал некоторого нравственного удовлетворения. Точно гора свалилась с плеч, когда дверь карцера затворилась на замок и я впервые очутился в низенькой темной каморке, лишь слабо освещенной падавшим из коридора в дверную форточку светом. Окно, выходившее на тюремный двор, всегда было плотно закрыто спущенным ставнем. Не успел я собраться с мыслями и чувствами, как из другого конца коридора послышался смех Валерьяна:
— Иван Николаевич, как поживаете? Что думаете спросить себе на завтрак — бифштекс или ростбиф?
— А, шутки в сторону, как вы думаете насчет пищи поступить?
— Сказать вам правду, я не особенно люблю с пустым желудком сидеть…
— Оно так, но, знаете, после того как Штейнгарт…
— Я и сам то же думаю. Попробуем, ведь не боги горшки обжигают!
Так перекликались мы довольно долго. Наконец под окном послышался голос Штейнгарта. Он пришел из больницы расспросить нас о событиях утра. После него кто-то другой постучал в ставень:
— Миколаич, друг!
Я узнал голос Чирка.
— Мяса не хошь ли? Огурцов с Луньковым караулят, я живой рукой подам.
С трудом убедил я своего приятеля оставить это намерение.
— Да ты не так ли уж, как Штенгор, задумал?
— Как это?
— Да так, не исть… Чудак, ведь замрешь!. Какая польза, кому надо?
Но, не дождавшись ответа на свой вопрос, добряк соскочил поспешно с подоконника, и я слышал, как он своей грузной, ковыляющей походкой улепетывал со всех ног; должно быть, подан был сигнал о близкой опасности…
Томительно потянулись часы за часами. Вот прозвенел колокольчик на обед. С веселым говором прошли по двору вернувшиеся из мастерских арестанты, торопясь в камеры обедать и отдыхать. Я явственно различал голоса некоторых из них; разговаривали всё о вещах посторонних. У большинства не было, очевидно, острого интереса к нашему делу, мало для них понятному и потому мало вызывавшему сочувствия.
— Степша! а ты продай мне свое мясо, я больно что-то жрать захотел сегодня.
— А он и говорит мне: «Ты, говорит…»
— Я тебе кайлу в боковину запущу, коли в другой раз слово такое услышу!
С такими речами кучка за кучкой проходили арестанты под нашими окнами, и наконец все затихло. Начался обед и затем отдых. Артельный староста в сопровождении дежурного надзирателя принес и нам хлеб с водой.
— Не обессудьте, Иван Николаевич, сегодня вам горячей пищи не полагается, а уж завтра беспременно подадим, — ласково, почти искательно сказал Годунов, всовывая ко мне в форточку свое красное лицо.
Я отвечал, что все равно не стану ничего есть.
— Это вы напрасно, право, напрасно! — в один голос заметили и староста и надзиратель. Форточка захлопнулась на задвижку, и шаги смолкли.
Переговариваться с Валерьяном я вскоре бросил — приходилось очень громко кричать, и это надоедало. Попытался я было лечь на короткую и жесткую лавку, неподвижно прикрепленную к стене, но лежать было слишком неудобно, и сон не шел. Голова пылала и болела от сильного нервного возбуждения; мысли, одна другой бессвязнее и нелепее, копошились в мозгу. Я опять вставал на ноги, пытался ходить взад и вперед по карцеру, но и ходьба не доставляла ни малейшего удовольствия, так как свободно можно было сделать всего лишь два шага.
Снова прозвенел звонок на работу, и снова с шумом прошли под окном толпы арестантов. Через час после того, слышно было, вернулись горные рабочие. И опять все затихло, как в могиле, только кровь громко стучала в висках: «Тук-тук-тук! Тук-тук-тук!» Несколько раз в течение дня подбегал к окну Штейнгарт, хотя свидания эти ни ему, ни нам не доставляли отрады. Сообщить друг другу было решительно нечего.
Я начинал между тем ощущать мучительный голод: как на грех, поутру я вышел на работу, не притронувшись ни к хлебу, ни к чаю. Впрочем, пить у меня еще не было особенного позыва. Зато Башуров давно уже жаловался на сильную жажду, которую увеличивало еще соседство жарко натопленной печки. Штейнгарт пробовал было убедить нас обоих не подражать ему — и пить по крайней мере воду, но мы остались при своем решении. Ударил наконец колокольчик на вечернюю поверку. В эту самую минуту кто-то торопливо вскочил на подоконник.
Читать дальше