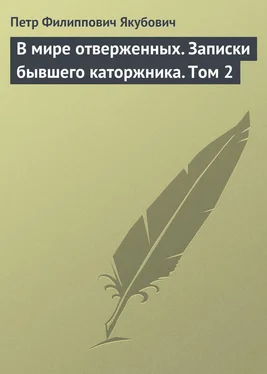На шестой день, едва только прошла утренняя поверка, мы бросились со всех ног к карцеру, забыв даже поставить стрёму.
Штейнгарт долго не отзывался на наши оклики, Башуров изо всей силы начал барабанить по ставню:
— Дмитрий! Дмитрий!
— Что? — откликнулся наконец слабый голос.
— Как ты напугал нас! Мы уж думали… Ну что? Как себя чувствуешь?
— Ничего. Галлюцинации проклятые не дают покоя… Вот она, вот, вот!
— Кто? Что ты там видишь?
— Вода, чтоб ее…
— Господа, сойдите с окна! Нам строго-настрого запрещено! — жалобным, почти умоляющим голосом заговорил внизу подошедший надзиратель.
Но мы еще несколько минут продолжали беседовать, не обращая на него внимания; побрякивая ключами и ежась от холода, он молча стоял перед карцером, не зная, что предпринять.
Мы спрыгнули наконец с подоконника. Валерьян был бледен и на глазах его дрожали слезы. Он крепко стиснул мою руку.:
— Иван Николаевич, чего же мы ждем, точно истуканы какие? Ведь так нельзя дольше оставить; он умереть может!..
Мной тоже овладел ужас и негодование на самого себя. Как! Товарищ гибнет на моих глазах, угасает страшной, медленной смертью за дело, которое всех нас одинаково близко касается, — и я не шевелю пальцем для того, чтобы спасти его, а если невозможно спасти, то хоть разделить его участь? Я только бесплодно ною, наяву и во сне предаваясь болезненным грезам, мрачным кошмарам, и ничего, ничего не делаю… И уже упущено столько драгоценного времени, уже идет шестой день, как живой здоровый человек не ест и не пьет, между тем как известно, что одной недели абсолютной жажды совершенно достаточно для того, чтобы погубить человеческий организм? Да это тоже какой-то сон, какой-то дикий кошмар, что я живу, безмолвно на все это глядя, спокойно дожидаясь роковой и неизбежной развязки! Эти мысли, как молния, пробежали в моем мозгу; я весь вздрогнул и точно стряхнул с себя гнетущие чары гипноза… Действовать! Спасать, пока еще не поздно! Погибнуть самому, но исполнить долг чести и товарищества!
Потрясенные, взволнованные, побежали мы к тюремным воротам с твердым решением в душе, хотя и без всякого определенного плана в голове…
— Пожалуйте к начальнику! — крикнул дежурный, растворяя перед нами ворота.
— Ага, вот кстати! Обоих?
— Нет, пожалуйте вы одни.
Приглашение относилось ко мне. Все последнее время надзиратели обращались с нами с какой-то усиленной, еще небывалой вежливостью и любезностью… Казак с ружьем тотчас же повел меня в контору. Только что переступил я порог хорошо знакомой комнаты, где за письменным столом восседал один Лучезаров (писаря находились в других комнатах), как бравый капитан порывисто и вскочил на ноги. Сегодня он показался мне бледнее обыкновенного; внутри его, видимо, клокотало раздражение, и глаза метали молниеносные взгляды.
— Да чего же вы домогаетесь, господа? — почти закричал он, сильным движением руки бросая на стол какую-то бумагу. — Сами делаете целый ряд… неосторожностей! Затеваете какие-то протесты! Голодные бунты! Чего же вы ждете? Этим вы себе только вредите, тем более что кто же верит нынче в голодовки!
— То есть как это «нынче»?
— Ну, да после этого, как бишь его? доктора, Таннера, что ли… Сорок дней человек голодал — и все-таки жив остался!
— Странным мне кажется делать столь смелые выводы на основании газетных анекдотов. Это во-первых. А во-вторых, если уж на то пошло, Таннер, помнится мне, все время своего поста употреблял воду.
— Да? Ну, а разве Штейнгарт… разве он серьезно? Ведь я же велел каждый день ставить ему воду.
— Так неужели вам докладывают, что он пьет эту воду? Это — ложь. Он не притрагивается к ней!
— Так скажите, ради бога, что же мне делать? Что я могу поделать?
— Прежде всего немедленно выпустить Штейнгарта, а затем…
— Выпустить! А знаете ли вы, — тут Лучезаров подошел ко мне вплоть и сказал почти шепотом, — знаете ли вы, что на меня и без того уже донос послан?
— Ну, этого я не могу вам сказать — кем, хотя и знаю, конечно, кем… Но факт тот, что он уже послан. Я выпустил Башурова из карцера по истечении трех суток, когда назначено было пять…
— Вами же самими назначено!
— Я сделал вам в последнее время крупные послабления, которых вы не могли, разумеется, не заметить…
— Какие же это послабления?
— Мой помощник не ходит больше на вечерние поверки, хотя это его прямая обязанность.
— Что это не прямая его обязанность, доказывает трехлетний пример его предшественника, который сидел себе в конторе и никогда не заглядывал даже в тюрьму. И было все тихо и прекрасно.
Читать дальше