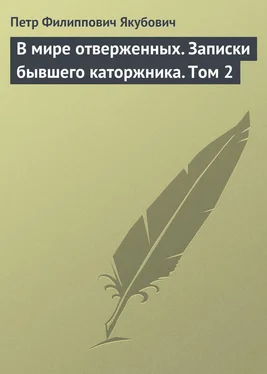— Ну да, алого, вестимо, алого, — категорически Заявил он.
— А мне кажется, лилового, — высказал я свое мнение, — алый как будто совсем не такой…
Быков сейчас же обиделся.
— Еловый?.. Я не знаю, какой такой еловый свет… Зачем и спрашиваете, коли сами всё знаете? Мы в попы ведь не метим. Хо-хо! Еловый свет!
И, надувшись, отошел прочь. [9]
Вот с этим-то человеком у Валерьяна Башурова и, произошло вскоре резкое столкновение. При установившейся раньше фамильярности отношений не мудрено, что в ответ на какую-то грубость Башурова (вроде «отойдите прочь, не мешайте мне!») Быков сам послал учителя в какие-то не очень двусмысленные места… Не ожидавший ничего подобного Башуров вскипел гневом и потребовал от Быкова, чтобы тот немедленно перед ним извинился. Быков, вместо извинения, закатился самым обидным хохотом и к первой грубости прибавил еще несколько площадных слов. Влиятельные арестанты, вроде Юхорева, поспешили удалиться из камеры, точно и не слышав ссоры; оставшаяся шпанка хранила безмолвный нейтралитет.
— Я всегда предупреждал вас, Башуров, — высказал я товарищу свое мнение, когда он рассказал мне эту историю, — так как на площадную брань мы не можем отвечать арестантам такой же бранью, то нам вообще не следует входить в чересчур близкие отношения с ними.
— Ах, право же, этот Быков исключение! Это такой осел…
— Ну, делать все-таки нечего, — решил Штейнгарт, — не лезть же тебе драться с ним.
В душе я чувствовал большое раздражение против товарища, обвиняя скорее его, нежели Быкова, с которого и спрашивать много нельзя было; тем не менее официально и я счел нужным несколько надуться на этого последнего, суше обыкновенного отвечая на его заговариванья при встречах. Вообще после этого случая мы с Штейнгартом еще больше насторожились; стоило теперь кому-нибудь из нас троих заговорить в присутствии кобылки что-нибудь лишнее или, как другим казалось, нетактичное, как уже слышалось из нашей кучки предостережение: «Noblesse oblige, [10]господа!..»
Проученный столкновением с Быковым и целым рядом других более мелких стычек с сожителями, сам Башуров стал подозрительно относиться ко всем арестантам, с которыми раньше допустил излишнюю близость. Он все чаще стал грубо обрывать фамильярное обращение с собою и получать в ответ, разумеется, такие же грубости. Популярность его так же быстро начала падать в тюрьме, как раньше быстро создалась. В конце концов и с Юхоревым у него началось охлаждение. На беду свою Башуров был чересчур откровенен и неосторожен в громком высказывании своих мыслей об артельных обычаях и порядках. Прежде, когда он держал себя с сожителями на равной ноге, самые резкие замечания его на этот счет прощались или обращались в шутку; но теперь, когда под влиянием обиженного самолюбия он попробовал круто изменить первоначальное поведение, оставляя, однако, за собой право разыгрывать роль цензора нравов, арестанты не захотели признавать за ним этого права. Вот на какой почве произошла первая его ссора с Юхоревым, недели две спустя после объявления в тюрьме манифеста. Придя раз утром в кухню за кипятком и увидев кухонников сидящими за каким-то, завтраком, он сказал, смеясь:
— Хорошо вам жить, господа, с теперешним старостой! Кормит он вас точно на убой.
Слова эти были приняты, казалось, за шутку, но когда Валерьян ушел, в кухне разыгралось целое драматическое представление. Явившемуся туда Юхореву сообщили, будто Башуров говорил о составившейся в кухне под его предводительством шайке. Как взбешенный лев, прибежал Юхорев в камеру и торжественно заявил Валерьяну:
— Я этого не ожидал от вас, Башуров. Мы жили до сих пор дружно, а теперь я вижу, что вы камень за пазухой держите. Только вам следовало бы доказать сначала, что я атаман какой-то там шайки, обворовывающей артель!
Башуров пробовал оправдаться: — Я пошутил, меня неверно поняли…
— Ну, так не шутят у нас, — внушительно возразил Юхорев и прибавил: — Впрочем, мне хорошо известно, откуда все это идет и кто вас настраивает против меня. Слишком уж высоко нос загибаете, господа!
— Кто меня настраивает и кто нос загибает? — допрашивал Валерьян.
— Да уж знаем мы кто! — сказал, как отрезал, Юхорев и выбежал, вон из камеры.
Узнав об этом разговоре, я ни минуты не сомневался в том, что разумел он главным образом меня. Еще до прибытия новичков я был по отношению к нему всегда крайне сдержан, как бы инстинктом чуя в нем хотя и выдающуюся, но лишенную всякого морального элемента силу, от которой благоразумнее стоять подальше; с, началом же дружбы Юхорева с Башуровым я (также, быть может, бессознательно) стал с ним не только сдержанным, но даже и холодным. И я чувствовал, что эта вибрация моих отношений не оставалась незамеченной умным арестантом. Он был по-прежнему безукоризненно вежлив со мной и Штейнгартом, но в вежливости этой уже чуялась затаенная вражда. Его, очевидно, глубоко задевало и оскорбляло, что с нашей стороны он не встречал того же товарищеского доверия и желания сблизиться, как со стороны экспансивного Валерьяна.
Читать дальше