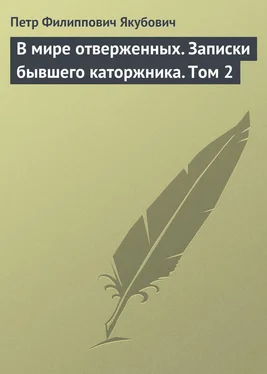С уменьшением числа сильных и здоровых элементов в тюрьме на места так называемых «домашних» рабочих, камерных старост, парашников, больничных и других служителей, тяжести работ которых Лучезаров не верил, все чаще и чаще ставились слабосильные старики и заведомые больные, сифилитики, чахоточные. Один только гигант Юхорев сумел как-то и в это время сохранить за собой место общего старосты, позволявшее ему целый день лежать на боку или слоняться без дела по тюрьме. Шестиглазый, очевидно, был чрезвычайно к нему расположен и, по рассказу самого Юхорева, говорил ему:
— На должности старосты непременно должен быть такой человек, как ты, — с хорошей глоткой и здоровым кулаком, чтобы живо можно было унять недовольных! Не допускай, чтобы в тюрьме слышалась воркотня на пищу или тяжесть работ. Чуть что, не докладывая мне, расправляйся сам с буянами.
— А по мне, пускай что хочет брешет, собачий сын! — прибавил от себя Юхорев, передавая такие поучения бравого капитана. — Я слушаю, да молчу. Что мне мешает вытянуться по-солдатски да гаркнуть: «Слу-шаю-с, господин начальник!» Душа из него вон.
И Юхорев продолжал быть тюремным царьком и все больше и больше забирать в свои руки власть над артелью. Это была вообще деспотическая натура. Ради соблюдения одной формы ходил он иногда по камерам и спрашивал: «Ребята, желаете ли того-то и того-то?» Но из самого тона, каким он задавал вопрос, сейчас же было видно, что ему самому кажется желательным, и ответ шпанки всегда был обеспечен. Случалось, что за глаза Юхорева не одобряли, поговаривали даже, что он заважничал и что нашлось бы, мол, из кого и другого старосту выбрать, но говорилось это несерьезно, так как отлично все понимали, что никто другой в тюрьме не в состоянии тягаться с Юхоревым ни в уме, ни даже во внешней представительности. Стоило только появиться в толпе арестантов могучей фигуре Юхорева, как все они начинали казаться перед ним мелкими мухами, самой заурядной шпанкой. Существовала также преувеличенная уверенность в том, что общий староста пользуется огромным влиянием на эконома, обдувает его в пользу артели и вообще держит в ежовых рукавицах. Мне самому действительно приходилось слыхивать в кухне, как Юхорев в глаза называл эконома шепелявым чертом, и тот только добродушно ежился да отшучивался. Но «шепелявый черт», со своей стороны, был достаточно пронырливая бестия, чтобы в чем-нибудь уступать самому хитрому и ловкому арестанту; восхищение кобылки умом своего старосты было чисто платоническим, никаких видимых благотворных для себя плодов от его победоносной политики тюрьма не видела; напротив, баланда в котле становилась с каждым месяцем все водянистее и безвкуснее, мяса все меньше и меньше; сало для каши то под тем, то под другим предлогом не выдавалось целыми неделями. Все это кобылка отлично видела и чувствовала, но личность Юхорева была слишком обаятельна и слишком подавляла всех, чтобы раздались наконец против него громкие протесты.
Между тем сам Юхорев, от природы жилистый и сухощавый, начинал лосниться от жира и избытка здоровья; он не пил чаю без молока, курил только хороший табак, ел много мяса и даже бывал иногда пьян, доставая спирт от фельдшера Землянского, с которым вел большую дружбу. Он сам похвалялся после одного из тюремных обысков, что если бы пошарили хорошенько в его бушлате, то нашли бы там целых двадцать пять рублей. Откуда у него взялись такие деньги? Откуда он брал молоко, мясо? Кобылка старалась не думать о таких щекотливых вопросах, продолжая молчаливо и безропотно питаться помоями.
В один из воскресных дней Штейнгарт, Башуров и я гуляли, по обыкновению, втроем в коридоре, как вдруг Юхорев крикнул с порога своей камеры:
— Валерьян, завтрак подан, иди, дружище!
— Какой такой завтрак? — с недоумением обратились мы к товарищу.
Башуров сконфузился.
— Да, знаете, там… Юхорев часто потчует… Неловко как-то отказываться.
— Чем он потчует?
— Ну, разным там, картошкой, иногда мясом…
— Да разве вы не знаете, откуда он берет все это? Ведь он у артели крадет, и если мы станем участвовать в его пирушках, как начнут глядеть на нас арестанты? Юхореву простят, а нам нет.
— О! да они ведь все участвуют… У нас чуть не вся камера ест картошку!
— Вот именно: «чуть не вся»… Какому-нибудь Карпушке, наверное, ничего не дают? Ваша камера имеет завтраки только потому, что в ней случайно скопились иваны, а другие сидят голодными.
Читать дальше