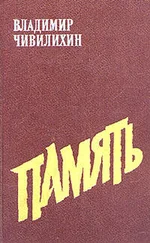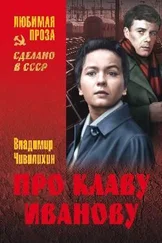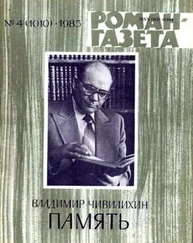Глухарь тяжело повернулся к огню боком и продолжал в темноту:
- И никого! Ни души. Вижу только, кричит мне напарник: "На митинг! Он умер". Сразу-то я подумал, что вранье. Может, сволочь, соображаю, какая-нибудь пустила слух, было же такое, когда в него Каплан стрелила. Вышли, однако, мы на деповский двор, знаешь, где сейчас Камень? Туда. Народу - черно! А погода была снежная и тихая, как сейчас помню. В Москве-то - потом писали - мороз вдарил в тот день, а у нас тепло, градусов пятнадцать, не боле. И снег. Снег! Валом валит. Гляжу - народ стоит, и паровозы подогнали со всей станции к депо. И вот, Петр, представляешь, бело с неба и кругом бело - на снег еще изгарь не села. И деповские стоят. Шапки в руках, и снег на головах не тает. Гляжу я, а сам все не верю. Как же так, думаю? Снег и люди, снег и паровозы. Белое и черное, больше ничего...
У старика затряслась спина. Мне ее, освещенную костром, было видно всю - широкую, обтянутую брезентовым плащом. И еще я увидел, как Глухарь собрал рукой лицо и застыл.
Я перевел взгляд на вишневые угли и тоже замер; Но вот старик кашлять начал, подал голос:
- Ничего я, Петр, не слыхал, что говорили на митинге. Стоял, и все. Очнулся, когда "кормилец" загудел. И паровозы тоже. Пар над ними, из свистков-то, белый-белый. Реву-у-ут! И тут я понял, что уж все. Правда. Долго они гудели. Везде, говорят, по пяти минут гудели, а у нас на Переломе больше, много больше...
Старик, видно, совсем успокоился. Я не отрывал глаз от огня, но видел как-то боком, что Глухарь недоуменно смотрит на меня.
- Ах да! - Голос его опять осекся. - Насчет оттенка. Понимаешь, Петр, я вот и говорю - тоже иногда вроде слышу. Началось это с того времени, как совсем слышать перестал. То ничего-ничего, а то вдруг в мозгу те самые капли из котла: "Кап! Кап! Кап!" И так явственно!.. А потом гудки. Реву-у-ут! Голова раскалывается. Что за чудо? Стреляй сейчас под ухом - не услышу, а тут - "Кап! Кап! Кап!". А ведь скоро сорок годов с того дня. И всегда переживаю, как гудки заслышу. Держу слезу и не могу...
Тот вечер не забыть мне. Если б я был художником, все бы по рассказу Глухаря нарисовал. Людей, снег, черное и белое. И Глухаря. Как он среди других стоит, и снег на голове.
Ни до этого, ни после не слышал я, чтобы Глухарь так много подряд говорил. На серьезной рыбалке, повторяю, он нем как рыба, никогда не обременяет своим присутствием, и с ним хорошо. Может быть, потому еще, что я знаю - ему в жизни нравится то же, что мне. Мы еще долго не спали. Разложили костер пожарче, долго говорили. Я ему в блокнот много чего тогда понаписал. И про Клаву Иванову, между прочим. Только не совсем то, что хотелось, хотя старику можно все доверить - он замолчит любые слова, особенно если попросишь. Ну, правда, насчет Клавы мне еще надо было кое-что для себя уяснить, и я, помню, так и сказал, для себя:
- Думал, что уж и не встречу. А тут - она. И где? Рядом со мной, в цехе...
Из темноты послышался голос Глухаря:
- Ты что-то говоришь, Петр?
- Нет, ничего не говорю.
- Ну говори, говори...
Мы полезли в балаган, когда костер совсем догорел, над жаром лишь тихо шептался пепел. А звезды еще ярче стали, шевелились, пригасали и разгорались на небе, ворсились. И чудилось, будто это они шуршат меж собой, не костер.
А в понедельник Глухарь позвал Клаву после работы к себе. Она спокойно вошла в его тесную протабаченную комнатенку. Старик даже не взглянул на нее. Сидел, грузно навалившись на стол, смотрел прямо и слепо, будто прислушивался к чему-то внутри себя. Клава бездумно наблюдала, как над его серыми бровями собирается в складки и разглаживается кожа. А руки Глухаря с изработанными суставистыми пальцами тяжело лежали на столе, они были большими и неподвижными, словно камни.
Может, он ждет от нее каких-нибудь объяснений? А что она ему скажет, если сама себе ничего толком не может объяснить? Есть ли у нее голова на плечах? Может, нету? Глухарь даже блокнота своего не вытащил. Нет, он просто задумался и забыл, что ее звал. Она, однако, сидит перед ним, и он должен видеть ее. Что же он молчит? Хоть бы слово сказал своим мертвым голосом, а то неизвестно, о чем думает. Да нет, наверно, он думает о ней, как все остальные. Сегодня столовская официантка долгим таким взглядом посмотрела на Клаву и нехорошо, понимающе улыбнулась. У официантки были блудливые глаза и накрашенные отпотевшие ресницы. Почему же он молчит? Ну пусть бы спросил. Глухарю-то она не соврет...
Молчание стало тягостным, и старик, должно быть, тоже почувствовал это.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу