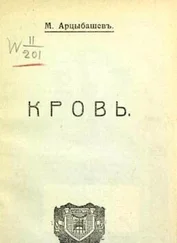Дни шли. Я любил жену, и она любила меня, но уже новой, спокойной, неинтересной любовью собственника, в которой было больше потребности и привязанности, чем страсти и силы. И иногда просто даже странно было вспомнить, что все «это» сделалось именно и только ради страсти. А в то время пока мы думали, чувствовали, делали все, что было нужно нам, пока все это казалось жизнью, волновало, радовало или мучило нас, беременность жены шла своим путем, по независящим от нас железным законам, занимая все больше и больше места в нашей жизни, вытесняя все другие интересы и желания.
Странно мне было то, как жена относилась к своему положению: это было для нее что-то неизмеримо важное, глубокое и притом святое. Она ни на минуту не забывала об этом, берегла будущего ребенка и никогда не спрашивала себя, кто это будет, зачем он нам нужен, почему придет и счастье или горе принесет с собою. Рождение его представлялось ей чем-то вроде светлого восхода какого-то лучезарного солнца, которое осветит и ее, и мою жизнь с иной, настоящей стороны и всему в ней придаст смысл и радость. И в то же время я ясно сознавал, что ребенок идет ко мне независимо от своей воли, что я могу желать его или не желать, а он все-таки придет, что мне никогда не нужно было его, не нужно и теперь (совсем не так, как всегда и всем нужно солнце), что мне нет никакого дела до будущего человека, что его жизнь может быть совсем не такою, какая интересна и кажется хорошею мне, и что у меня есть своя, большая, свободная и захватывающая жизнь, которой я еще не исчерпал и которую никто не может требовать у меня. И чем больше я думал о будущем, тем более ненужным, обременительным казалось мне рождение ребенка: оно спутывало все мои планы на жизнь, и, наконец, вся эта беременность стала возбуждать во мне злое чувство, как неудобное, тяжелое обстоятельство жизни.
Один раз жена сказала мне:
— Отец и мать рабы своего ребенка! — И счастливо улыбнулась.
Я удивился и промолчал. До сих пор я всегда думал, что не могу быть ничьим, и полагал, что это хорошо. Теперь же я чувствовал, что это так и есть и иначе и быть не может: я буду рабом и не могу не быть им, потому что я незлой и совестливый человек и потому что инстинкт окажется сильнее меня и вложит в меня эту тупую, бессмысленную, узкоживотную любовь к своему детенышу. И в ту же минуту я ощутил прилив бессильного отчаяния и горькое, злое чувство. Я увидел, что это сильнее меня, и возненавидел будущее той неумолимой и безнадежной ненавистью, какою случайный раб ненавидит своего господина. А жена видела в этом рабстве истинное счастье, как прирожденная верная раба, даже и не понимающая свободы.
«Чем объяснить, — подумал я, — что даже Библия говорит, что Бог дал материнство как наказание, а люди сделали из этого радость?..»
У меня были два товарища, оба художники, как и я, простые, веселые и живые люди, которых я очень любил. Прежде мы с ними постоянно мотались из стороны в сторону и в жизни нашей была вся бесконечно разнообразная прелесть ничем не связанной, веселой богемы.
Теперь мне было неудобно вести такой образ жизни, даже часто уходить надолго из дому: я бы причинил этим горе жене, а я не хотел огорчать ее, потому что любил. Правда, она охотно отпускала меня на этюды и даже сама посылала, но морщилась, грустила и, видимо, страдала, когда я уходил туда, где была игра или были женщины, и хотя ничего не говорила об этом, но безмолвно осуждала меня за игру, за разгул, за безалаберность. Хуже всего было то, что она была права: все это было дурно, и я сам знал это, но было странно и обидно, что не «я» решаю переменить жизнь, а делает это за меня другой человек.
На этюдах исчезло именно то, что составляло их прелесть: прежде, выходя из города, я чувствовал только одно — что мне хорошо в бесконечном просторе полей, и желал только одного — уйти как можно дальше. Если я сбивался с дороги, ночевал в поле, это было еще лучше, еще свободнее, еще шире. А теперь я думал, что нехорошо с моей стороны оставлять жену одну на целый день.
— Ты придешь к обеду? — спрашивала жена.
И я все время докучливо думал только о том, что не надо заходить слишком далеко, старательно замечал дорогу, торопился на возвратном пути и искренно страдал, когда товарищи мои увлекались этюдами и останавливались где-нибудь на дороге.
— А ты отчего не пишешь? — спрашивали они, весело набрасывая живые краски.
— Так… лень… — притворно улыбался я, вставал, ложился, отходил и приходил с томлением в душе, боясь, чтобы они не догадались об этом, и думая, что они догадываются. Было чего-то стыдно.
Читать дальше