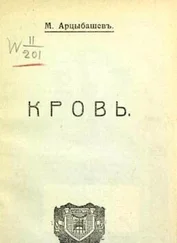Дуновение вражды и приближающейся ссоры пронеслось так явственно, что Марусин поднял голову и покраснел, а Опалов заерзал в неопределенном движении между Четыревым и Мижуевым.
— Почему же?.. — сдержанно спросил Мижуев, и что-то грустное послышалось в его голосе. — Я…
— Я не о вас говорю… — небрежно возразил Четырев, и уже совсем ясно стало видно, что он весь во власти неудержимой упрямой ненависти.
— А хотя бы и обо мне… — тихо и не поднимая глаз, заметил Мижуев.
— О присутствующих не говорят!.. — вмешался Опалов. — Вы это забыли, Федор Иваныч!
Мижуев потупился еще больше и еще тише возразил:
— Нет, отчего же… Мне очень интересно знать, что думает… Сергей Максимыч, которого я очень люблю и уважаю как писателя…
Четырев вдруг тоже покраснел. И, не глядя на него, Мижуев понял, что он не верит ему и думает, будто Мижуев хочет его задобрить. Это было страшно больно и обидно. Стало стыдно своей откровенности и недоумевающе-грустно. Четырев искренне казался ему чутким и вдумчивым писателем, и было непонятно, что этот вдумчивый правдивый человек, почти не зная его, уже за что-то ненавидит и хочет сделать больно.
Мижуев сделал над собой болезненно огромное усилие и так же тихо сказал:
— Я говорю искренне…
Теплая просящая нотка дрогнула в его голосе.
Марусина тронуло, что такой большой, сильный, поживший человек так кротко стучится к людям, отталкивающим его. Легкая досада на Четырева шевельнулась в нем.
— Сергей Максимыч, вероятно, хочет сказать, — заговорил он, краснея и поднимая добрые глаза, — что скопление огромных богатств в руках одного человека… есть нелепость…
— Ну, это что-то из социал-демократической программы… — насмешливо отозвался Подгурский.
— Сам миллионер, как живой человек, по-моему, нелепость! — резко перебил Четырев.
— Что вам сделали несчастные миллионеры? — опять постарался сбить на шутку Опалов.
Но это вмешательство раздражило Мижуева. В любопытных глазах Опалова он уловил тайное удовольствие.
— Нет, я попросил бы вас дать высказаться Сергею Максимовичу, — холодно и властно сказал он. Опалов несмело мигнул и неловко улыбнулся.
— Что ж тут высказываться?.. — хмуро возразил Четырев. — Что я думал, я уже сказал, вполне ясно. Я считаю нелепой жизнь людей, у которых в руках сосредоточивается им не принадлежащая колоссальная сила. Они не могут не сознавать, что сами по себе не только нуль, а ниже нуля… что без своих миллионов они никому не нужны. Является логическая необходимость или уйти в ничто, или использовать эту силу… А как ее можно использовать?.. Что могут дать деньги, громадные деньги?.. Разврат, власть, роскошь… И странно было бы думать, что человек может отказаться от того, что так услужливо и легко ему дается. И он развратничает, насильничает… самодурствует…
— Будто только это?.. А Третьяков, например?.. — тихо заметил Мижуев.
— Что ж, Третьяков? — резко оборвал Четырев. — Такой же самодур, как и все… Человек употребил всю свою жизнь на то, чтобы давить на искусство в угодном ему направлении, создал в России целую полосу тенденциозного уродливого направления, на десяток лет задержав здоровое, нормальное развитие искусства.
Резкий, но слабый голос Четырева, которому было трудно бороться с ресторанным шумом, звучал злобно и напряженно.
— Что-нибудь одно: или, идя естественным в своем положении путем, миллионер должен быть паразитом, губить жизнь, высасывая из нее соки, чтобы пухнуть, как червяк на падали, или остаться тем, что есть: ничтожным придатком к своим миллионам…
— А разве сам миллионер не может быть талантливым человеком, писателем, художником, поэтом? — спросил Опалов.
— Может, конечно!.. — коротко пожал плечами Четырев. — Но для того, чтобы развить талант, чтобы создать из себя самого нечто большое, надо борьбу, страдание… Что же может заставить страдать человека, которому жизнь и без того сует в руки самые утонченные наслаждения?.. Это нелепо!..
— Федор Иваныч… — деликатно перебил неслышно подошедший старичок распорядитель. — Вас просят к телефону.
Четырев внезапно замолчал, и глаза у него стали странными, углубленными, точно он мысленно продолжал свою злобную и страдающую речь.
— Что?.. — не сразу поняв, переспросил Мижуев. Лицо его было бледно и устало, и страдальческая черточка лежала у печальных глаз.
— Господин Пархоменко просит вас к телефону.
— Может быть, во многом вы и правы, — не глядя на Четырева, проговорил Мижуев, — и я хорошо понимаю вас, но… знаете, это — жестоко!.. Простите, господа, я сейчас… — перебил он самого себя и пошел за лакеем.
Читать дальше