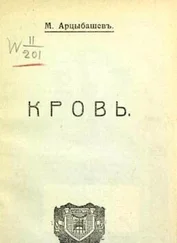— Так вот что, доктор, — заговорил Кончаев, беря его под толстую теплую руку, и, сразу меняя тон на серьезный и даже неестественно торжественный, передал Лавренко распоряжение комитета.
Лавренко слушал молча, а когда Кончаев замолчал, опять тяжело вздохнул.
Эти вздохи почему-то раздражали Кончаева.
— Да что вы все охаете, доктор? — досадливо спросил он, выпуская его руку.
— Да что, голубь мой, — искренно и мягко ответил Лавренко. — Грустно все-таки…
— Что ж тут грустного?
— Будут стрелять, народу перебьют много, а что из того? Для чего?
В его всегда ленивом голосе зазвенели и сорвались страстные и скорбные нотки.
«Вот… а сам только и делает, что на бильярде играет!» — удивленно мелькнуло в голове у Кончаева, и тихая задумчивость залегла у него в душе, точно кто-то задал ему глубокую и печальную загадку.
— Но вы, однако, предложение комитета принимаете все-таки? — озабоченно встряхнув головой, после долгого молчания спросил он.
Лавренко ответил не сразу.
— Об этом что говорить… — медленно ответил он. — Хотя, по правде сказать, трудно это для меня.
— Почему?
— Ленив я очень, — улыбаясь в темноте, ответил Лавренко, — а главное, что греха таить, боюсь… Боюсь, голубь мой… Вы знаете, чем это кончится… Нас, конечно, разобьют, потому что силы у нас мало, организация слабая, а тогда, если не убьют раньше, многих постигнет такая расправа, что… Ну, да что об этом говорить! — повторил, махнув рукой, Лавренко. — Вы куда теперь?
Смутная тревога шевельнулась в мозгу Кончаева. Но он опять встряхнул толковой и ответил:
— Я тут недалеко, к знакомым.
— Ну, прощайте, голубь мой, может, завтра еще увидимся!
Лавренко подал ему свою руку, и Кончаев не сразу нашел ее в темноте. Рука доктора была горяча и как будто слегка дрожала.
— Тогда можно будет бежать за границу, — неожиданно сказал Кончаев, отвечая тому внутреннему, что как будто передалось ему по руке доктора.
Лавренко помолчал, точно обдумывая.
— Нет, где уж мне, голубь мой, бежать! — с добродушно-грустной иронией возразил он. — Толст я очень, не побегу.
— Да вы не волнуйтесь так, доктор, — весело сказал Кончаев, крепко встряхивая его руку. — Может, еще ничего ужасного и не будет.
— Боюсь, голубь мой, боюсь, — с грустной стыдливостью ответил Лавренко. — Не хочется умирать!.. Страшно и жаль всего белого света! Ну, прощайте пока!.. А ужасное и сейчас есть и, быть может, оно-то и есть ужаснее самой смерти.
— Что? — не поняв, спросил Кончаев.
— То, что мы, люди, располагающие огромным красивым земным шаром, прекрасным сложным умом и богатыми чувствами, должны бояться, что вот придет самый глупый и самый дрянной из нас и простой палкой расколет нам череп… точно пустой глиняный горшок, в котором никогда ничего и не бывало… Какую же роль играет тогда и этот ум, и чувства?
— Ну, это…
— Да, смерть — это непреложный закон, но в такие моменты яснее и неотвратимее ее видишь, а главное, ужасно то, что мы сами, вместо того, чтобы напрячь все человеческие силы и умы для борьбы с нею, сами приближаем ее к себе и в какой гнусной, отвратительно бессмысленной форме… Ну, да что уж тут… Прощайте, голубь мой!.. дай вам Бог!..
Они разошлись, и Кончаев долго слышал за собой удаляющийся шорох подошв доктора. Он снял фуражку, тряхнул по своей привычке головой, опять надел ее и моментально вспомнил о Зиночке Зек, забыл все, что чувствовал, пока говорил доктор, и пошел вдоль бульвара, с наслаждением подставляя грудь упругому морскому ветру, чуть слышно налетавшему откуда-то из звездного мрака.
Две крупные неподвижные звезды низко блестели перед ним, не то близко, не то далеко.
В узком переулке, где жила Зиночка Зек, было так темно, что Кончаев вспомнил свое детство и свой уездный, глухой городишко. Свет падал только из окон и ложился на белую пыльную мостовую длинными яркими полосами, от которых мрак вокруг еще более чернел и сгущался.
Кончаев подошел к окнам и через узкий палисадник заглянул в комнаты. Как всегда, когда из темноты смотришь в освещенный дом, там казалось удивительно светло, нарядно по-праздничному, точно ждали гостей. В столовой, однако, никого не было, и на белой скатерти одиноко блестел потухший самовар. В другой комнате, за тюлевыми занавесами, горели свечи и расплывчато виднелись люди. Два силуэта были темны, а два — белели сквозь тюль, и нельзя было узнать, кто это.
В гостиной было полутемно и красно от большого абажура, неярко багровевшего в углу, как огромное огненное насекомое, усевшееся на стену. Через открытое окно слышались звуки рояля, тихие и редкие, точно кто-то, задумавшись, трогал клавиши кончиками пальцев, и по знакомому, сладко-тревожному замиранию сердца Кончаев почувствовал, что это она-Зиночка. Он облокотился на решетку палисадника, инстинктивно принял красивую позу и, глядя в окно, тихо позвал:
Читать дальше