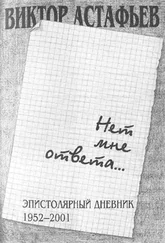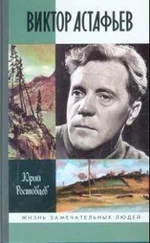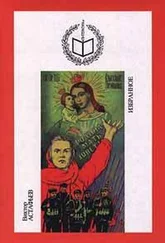На пятые сутки мы поднялись к первой поднебесной поляне и не вздохнули облегченно, не заорали «ура!», а сделали два вялых дуплета из ружей в честь того, что довели стадо без потерь, и повалились спать, пустив телят и коней в сочную, белопенную от цветущих морковников траву, страшась лишь того, чтобы скотина не объедалась.
Выспавшись и придя немного в себя, мы осмотрелись — долго синел впереди Кваркуш. И вот мы наверху. Простор такой, что взгляда не хватает. Простор холодный, безмолвный, по всему хребту останцы, будто развалины вымерших городов. И чем дальше, чем выше, тем более вершины, тем гуще прожилья вечных снегов. Худые, скособоченные, изверченные стужей леса крались по распадкам, достигая вершин, взбирались на сопки и останцы, но здесь останавливались, застывали, стуча под ветром окостенелыми сучками. Однако же, приглядевшись, заметишь ниже культяпистых, часто сломленных бурею вершин и живые ветки, по-птичьи распластавшиеся по земле крыла сизой птицы, березу с горсткой черствых листьев, в заувее, меж скал, реденькую, чахлую, кособокую стайку елей или сиротски жмущиеся друг к дружке шумливые осинники; средь серых камней и сухостоин малахитово светились бархатистыми кисточками кедры. Отсюда, с Кваркуша, пастухи увозили березу на топорища, делали заготовки для полозьев саней, пилили кругляш на обувную шпильку: дерево, испытанное здешним климатом, так крепко, что поделкам из него не было износу. Вид высокогорных лесов напоминал русских вдов, надсаженных войною; плоть деревьев, которую не брал острый топор, делала это сходство более полным.
Все цвело на альпийских лугах как-то избирательно: то вся поляна сизая от мышиного горошка, то сдобно-кремовая от первоцвета или небесно-голубая от незабудок. И только крап заблудившихся растений, чаще всего белых розеточек подснежников, морковника, луговой чины либо алых приполярных маков красиво пятнал одноцветные поляны, о которых ребятишки, как увидели, сразу спросили:
— Кто же здесь цветы посеял?!
— Природа, — заявил старшой.
Подкормив стадо, мы сделали последний переход к поляне, названной пастухами довольно-таки современно — «Командировка».
Принявши скот, пастухи похвалили нас: мол, с ребятишками гнали, но никакого в стаде урону, а вот шестеро взрослых головотяпов пригнали стадо и потеряли в пути двадцать голов скота.
В честь так удачно завершенного дела ребята наши натопили баню, оставшуюся от спецпереселенцев, мылись там, стегая друг дружку вениками, выбегали нагишом на улицу и с визгом бухались в ледяную воду речки Цепёл, падающей с тундряной горы.
Мы сидели на крыльце избы, курили, хохотали над парнишками, песни пели, в цель стреляли и в фуражки, которые охотно подбрасывали ребята. Спать легли поздно, так как ночи здесь уже не было, накатывали лишь морок и вовсе уж оглохлая, вроде бы даже густая тишь, в которую среди лета, сказывали пастухи, гнус заедает насмерть все живое.
Проснулись и увидели возле печки пастуха Устина, долговязого, тощего мужика. Он шумно хлебал жидкую кашу из котелка, глядя куда-то в пространство обиженно и скорбно.
— Беда, ребята, — сказал он, дохлебав кашу, — мохнорылый задрал бычка. Мне платить…
Все ссыпались с печи, с нар, бросились на улицу, будто могли еще поправить беду, и были ослеплены яркой белизной: ночью выпал снег. Мягкий, липкий, пушистый, он оседал последними хлопьями. Темная, синеющая туча волокла плотную его массу к северным недвижным хребтам. Плывя торопливо, срезанно, дальние вершины выныривали все реже, реже, пока вовсе не затонули во вспененных, круто двигающихся волнах. Но это там, на севере, в дальней дали. А здесь, на Кваркуше, обмерло все, остановилось, стихло. Низкие облака наполнили расщелины гор, недвижно лежали на верхних беломошных полянах, лепились к чахоточно-серым лесам, пластами висели над всем хребтом. Сплошной капелью заполнили мир. Со стлаников, сдавленных снегом, с худых деревцев, с крыши старой избы, с бани, с камней, с каждой веточки, былинки и листочка сочилось мокро, из разложин густо повалил пар, заполняя сонной зяблостью округу.
Наше становище располагалось на склоне поляны, сплошь заросшей желтой купавой. Стебли и листья цветков завалило снегом, головки купав светились лампадками на немыслимо белом и ярком пологе. И чем дальше по склону, тем гуще было свечение. Ближе к небу седловина сплошь была охвачена желтым заревом; казалось, совершилось всесветное чудо — небо, усыпанное звездами, опрокинулось, и мы боязливо ступали по нему, податливо-мягкому, боясь провалиться в тартарары. Было так дивно сладостно и жутко, что я еще раз в который уж! — осознал бессилие слова перед могуществом и красотой природы. Не верилось, что в такой благостной тишине, среди такой красоты могла быть смерть, жестокость и вообще какая-либо напасть.
Читать дальше