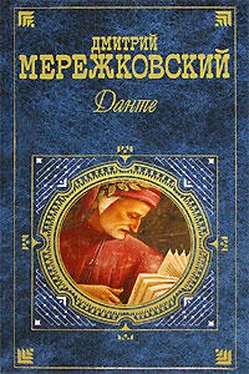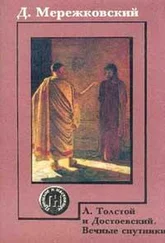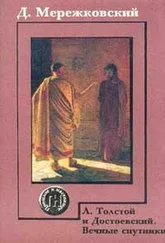Очень важным делом кажется Бруни участие Данте в Кампальдинском сражении, а любовь его к Беатриче — «пустяками», leggerezze. [210] Ib., p. 99.
Ho самому Данте, может быть, наоборот: «пустяками» кажется его военная доблесть, а важным делом — любовь.
Судя по тому, как он вспоминает в «Новой жизни», первый поход, вероятно, на тех же аретинцев, в 1285 году, он не испытал, и в этом втором походе ничего, кроме «большого страха», скуки и отвращения. «В обществе спутников моих я очень тосковал, что удаляюсь от моего Блаженства» (Беатриче). [211] V. N. IX.
Он ехал на коне, грустный и задумчивый, потому что против воли. Вдруг увидел на дороге бога Любви, «в легкой одежде, как бы рубище паломника», подобного нищему: «как будто потерял он всю свою власть… и шел, грустно вздыхая, низко опустив голову, чтобы люди не видели его лица». [212] V. N. XIX.
Что это — аллегория, видение, «галлюцинация», по-нашему, или нечто большее? Как бы то ни было, для самого Данте этот призрачный спутник действительнее всех других его спутников — рыцарей, закованных в железо; а может быть, действительнее даже, чем он сам для себя. Этот таинственный призрак сопутствовал ему, вероятно, и во втором походе так же, как в первом; всю жизнь будет он с ним неразлучен.
Дважды вспомнит Данте о Кампальдинском бое, в «Комедии»; в первый раз, — только для того, чтобы сравнить звук военной трубы, зовущей людей умирать за отечество, с тем непристойнейшим звуком в Аду, которым один из самых зловонных бесов, Барбариччия, сопровождает каждый шаг своего шутовского военного шествия; [213] Inf. XXI, 129.
а во второй раз — только для того, чтобы вспомнить, как один, почти никому не известный воин, Буонконте да Монтефельтро, погибший жалкою смертью в неприятельском войске, спас душу свою в борьбе с дьяволом, последним вздохом к Деве Марии. [214] Purg. V, 85.
Вечные судьбы души человеческой дороже для Данте, чем так называемое «спасение отечества». В свой жестокий, железный, воинственный век он — один из самых мирных людей: не только ненавидит, но и презирает войну. И в этом, как во многом другом, к будущему ближе он, чем к прошлому и настоящему.
Может быть, после той тяжелой, едва не смертельной, болезни Данте, Биче, в одну из мимолетных уличных встреч, и прошла мимо него, без приветствия, как проходила во все эти два последних года («жестокость» это или что-то совсем другое, — мучить так человека, почти смертельно больного от любви к ней?). Но по тому, как она вдруг покраснела и побледнела от радости, увидав, что он жив и здоров, он понял, что она простила его и снова позволяет любить себя; и обрадовался этому так, как будто и она его любит; может быть, подумал, в первый раз: «А что, если любит?» Но все равно, любит или не любит, — Она есть в мире, и даже если умрет, и не будет ее, — все-таки была: уже в этом одном блаженство для него бесконечное.
Видел я монну Ванну и монну Биче,
идущих навстречу мне.
Чудо одно шло за другим.
И то же, что говорила душа моя,
сказал мне бог Любви: «Имя той: Весна,
а этой: Любовь, — так она похожа на меня»
вспоминает Данте, может быть, об этих блаженных днях. [215] V. N. XXIV.
В первый и последний, единственный раз на земле называет он Беатриче ее земным, простым, уменьшительным именем «Биче» (так назовет ее снова, только в раю), — может быть, потому, что вдруг чувствует ее земную, простую близость, в простой, земной любви.
Столь же, как любовь, прежде, казалась мне жестокой,
кажется она мне теперь милосердной…
И чувствует душа моя
такую в ней сладость,
что лицо мое бледнеет. [216] V. N. XXVII.
… «Сердце мое было, в эти дни, так радостно, что казалось мне не моим: столь ново было для меня это чувство». [217] V. N. XXIV.
В эти дни, вероятно, и прозвучала одна из самых райских песен земли — о трех певцах любви и трех возлюбленных: Данте и монне Биче, Гвидо Кавальканти и монне Ванне, Лапо Джианни и монне Ладжии. [218] F. Torraca, p. 514.
Но и в этой песне Данте не смеет назвать Беатриче по имени, — слишком оно для него свято и страшно; он называет ее «Числом Тридцатым», потому что «всех чудес начало — Три в Одном».
Хотел бы, Гвидо, я с тобой и с Лапо,
В одной ладье волшебной, в море плыть
Так, чтоб сама она, по нашей воле,
Как по ветру неслась, и ни судьба
И никакое зло иное в мире
Нам не могло преградой быть в пути;
Но, чтоб в одном блаженстве бесконечном,
Быть вместе в нас желание росло.
Еще хотел бы я, чтобы волшебник добрый
К нам перенес в ладью и монну Ванну,
И монну Ладжию, и ту, чье имя
Я под числом тридцатым в песне скрыл;
И чтобы в этом светлом море, с ними
Мы о любви беседовали вечно,
И каждая из наших вечных спутниц
Была бы так же счастлива, как мы. [219] Rime 52.
Читать дальше