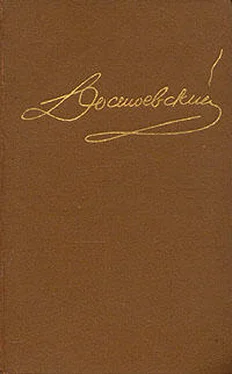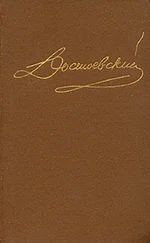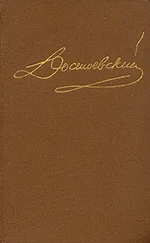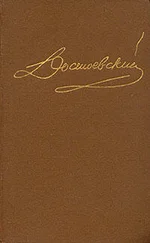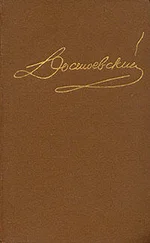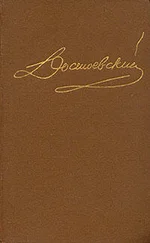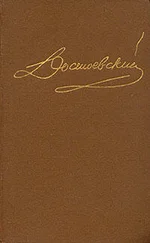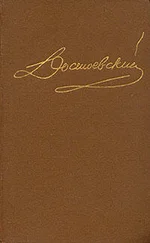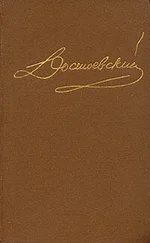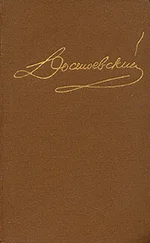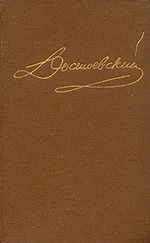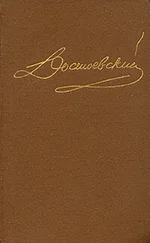— Позвольте сперва вас спросить: неужели вы сейчас ехать хотите?
— Шучу, что ли, я, матушка? Сказала и поеду. Я сегодня пятнадцать тысяч целковых просадила на растреклятой вашей рулетке. В подмосковной я, пять лет назад, дала обещание церковь из деревянной в каменную перестроить, да вместо того здесь просвисталась. Теперь, матушка, церковь поеду строить.
— А воды-то, бабушка? Ведь вы приехали воды пить?
— И, ну тебя с водами твоими! Не раздражай ты меня, Прасковья; нарочно, что ли, ты? Говори, едешь аль нет?
— Я вас очень, очень благодарю, бабушка, — с чувством начала Полина, — за убежище, которое вы мне предлагаете. Отчасти вы мое положение угадали. Я вам так признательна, что, поверьте, к вам приду, может быть, даже и скоро; а теперь есть причины… важные… и решиться я сейчас, сию минуту, не могу. Если бы вы остались хоть недели две…
— Значит, не хочешь?
— Значит, не могу. К тому же во всяком случае я не могу брата и сестру оставить, а так как… так как… так как действительно может случиться, что они останутся, как брошенные, то… если возьмете меня с малютками, бабушка, то, конечно, к вам поеду и, поверьте, заслужу вам это! — прибавила она с жаром, — а без детей не могу, бабушка.
— Ну, не хнычь! (Полина и не думала хныкать, да она и никогда не плакала), — и для цыплят найдется место; велик курятник. К тому же им в школу пора. Ну так не едешь теперь? Ну, Прасковья, смотри! Желала бы я тебе добра, а ведь я знаю, почему ты не едешь. Всё я знаю, Прасковья! Не доведет тебя этот французишка до добра.
Полина вспыхнула. Я так и вздрогнул. (Все знают! Один я, стало быть, ничего не знаю!)
— Ну, ну, не хмурься. Не стану размазывать. Только смотри, чтоб не было худа, понимаешь? Ты девка умная; жаль мне тебя будет. Ну, довольно, не глядела бы я на вас на всех! Ступай! прощай!
— Я, бабушка, еще провожу вас, — сказала Полина.
— Не надо; не мешай, да и надоели вы мне все. Полина поцеловала у бабушки руку, но та руку отдернула и сама поцеловала ее в щеку.
Проходя мимо меня, Полина быстро на меня поглядела и тотчас отвела глаза.
— Ну, прощай и ты, Алексей Иванович! Всего час до поезда. Да и устал ты со мною, я думаю. На, возьми себе эти пятьдесят золотых.
— Покорно благодарю вас, бабушка, мне совестно…
— Ну, ну! — крикнула бабушка, но до того энергично и грозно, что я не посмел отговариваться и принял.
— В Москве, как будешь без места бегать, — ко мне приходи; отрекомендую куда-нибудь. Ну, убирайся!
Я пришел к себе в номер и лег на кровать. Я думаю, я лежал с полчаса навзничь, закинув за голову руки. Катастрофа уж разразилась, было о чем подумать. Завтра я решил настоятельно говорить с Полиной. А! французишка? Так, стало быть, правда! Но что же тут могло быть, однако? Полина и Де-Грие! Господи, какое сопоставление!
Всё это было просто невероятно. Я вдруг вскочил вне себя, чтоб идти тотчас же отыскать мистера Астлея и во что бы то ни стало заставить его говорить. Он, конечно, и тут больше меня знает. Мистер Астлей? вот еще для меня загадка!
Но вдруг в дверях моих раздался стук. Смотрю — Потапыч.
— Батюшка, Алексей Иванович: к барыне, требуют!
— Что такое? Уезжает, что ли? До поезда еще двадцать минут.
— Беспокоятся, батюшка, едва сидят. «Скорей, скорей!» — вас то есть, батюшка; ради Христа, не замедлите.
Тотчас же я сбежал вниз. Бабушку уже вывезли в коридор. В руках ее был бумажник.
— Алексей Иванович, иди вперед, пойдем!..
— Куда, бабушка?
— Жива не хочу быть, отыграюсь! Ну, марш, без расспросов! Там до полночи ведь игра идет?
Я остолбенел, подумал, но тотчас же решился.
— Воля ваша, Антонида Васильевна, не пойду.
— Это почему? Это что еще? Белены, что ли, вы все объелись!
— Воля ваша: я потом сам упрекать себя стану; не хочу! Не хочу быть ни свидетелем, ни участником; избавьте, Антонида Васильевна. Вот ваши пятьдесят фридрихсдоров назад; прощайте! — И я, положив сверток с фридрихсдорами тут же на столик, подле которого пришлись кресла бабушки, поклонился и ушел.
— Экой вздор! — крикнула мне вслед бабушка, — да не ходи, пожалуй, я и одна дорогу найду! Потапыч, иди со мною! Ну, подымайте, несите.
Мистера Астлея я не нашел и воротился домой. Поздно, уже в первом часу пополуночи, я узнал от Потапыча, чем кончился бабушкин день. Она всё проиграла, что ей давеча я наменял, то есть, по-нашему, еще десять тысяч рублей. К ней прикомандировался там тот самый полячок, которому она дала давеча два фридрихсдора, и всё время руководил ее в игре. Сначала, до полячка, она было заставляла ставить Потапыча, но скоро прогнала его; тут-то и подскочил полячок. Как нарочно, он понимал по-русски и даже болтал кое-как, смесью трех языков, так что они кое-как уразумели друг друга. Бабушка всё время нещадно ругала его, и хоть тот беспрерывно «стелился под стопки паньски», но уж «куда сравнить с вами, Алексей Иванович, — рассказывал Потапыч. — С вами она точно с барином обращалась, а тот — так, я сам видел своими глазами, убей бог на месте, — тут же у ней со стола воровал. Она его сама раза два на столе поймала, и уж костила она его, костила всяческими-то, батюшка, словами, даже за волосенки раз отдергала; право, не лгу, так что кругом смех пошел. Всё, батюшка, проиграла; всё как есть, всё, что вы ей наменяли. Довезли мы ее, матушку, сюда — только водицы спросила испить, перекрестилась, и в постельку. Измучилась, что ли, она, тотчас заснула. Пошли бог сны ангельские! Ох, уж эта мне заграница! — заключил Потапыч, — говорил, что не к добру. И уж поскорей бы в нашу Москву! И чего-чего у нас дома нет, в Москве? Сад, цветы, каких здесь и не бывает, дух, яблоньки наливаются, простор, — нет: надо было за границу! Ох-хо-хо!..»
Читать дальше