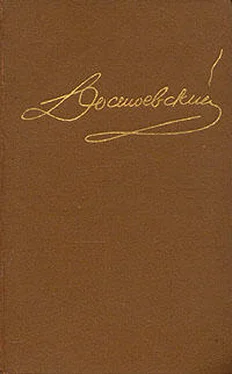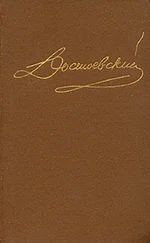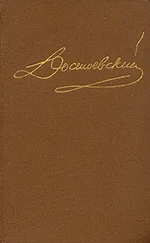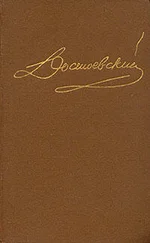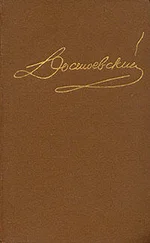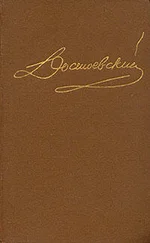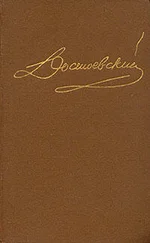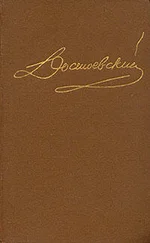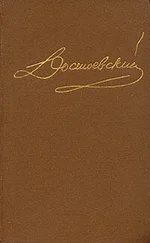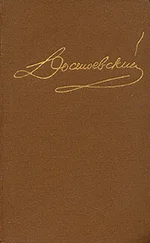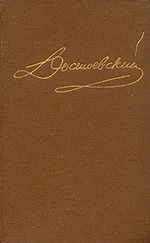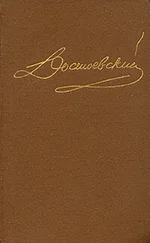— Ну, пошел, пошел! Всё вздор мелешь! «Madame, madame», a сам и дела-то не понимает; пошел!
— Mais, madame, — защебетал Де-Грие и снова начал толкать и показывать. Очень уж его разбирало.
— Ну, поставь раз, как он говорит, — приказала мне бабушка, — посмотрим: может, и в самом деле выйдет.
Де-Грие хотел только отвлечь ее от больших кушей: он предлагал ставить на числа, поодиночке и в совокупности. Я поставил, по его указанию, по фридрихсдору на ряд нечетных чисел в первых двенадцати и по пяти фридрихсдоров на группы чисел от двенадцати до восемнадцати и от восемнадцати до двадцати четырех: всего поставили шестнадцать фридрихсдоров.
Колесо завертелось. «Zéro», — крикнул крупер. Мы всё проиграли.
— Эдакой болван! — крикнула бабушка, обращаясь к Де-Грие. — Эдакой ты мерзкий французишка! Ведь посоветует же изверг! Пошел, пошел! Ничего не понимает, а туда же суется!
Страшно обиженный Де-Грие пожал плечами, презрительно посмотрел на бабушку и отошел. Ему уж самому стало стыдно, что связался; слишком уж не утерпел.
Через час, как мы ни бились, — всё проиграли.
— Домой! — крикнула бабушка.
Она не промолвила ни слова до самой аллеи. В аллее, и уже подъезжая к отелю, у ней начали вырываться восклицания:
— Экая дура! экая дурында! Старая ты, старая дурында!
Только что въехали в квартиру:
— Чаю мне! — закричала бабушка, — и сейчас собираться! Едем!
— Куда, матушка, ехать изволите? — начала было Марфа.
— А тебе какое дело? Знай сверчок свой шесток! Потапыч, собирай всё, всю поклажу. Едем назад, в Москву! Я пятнадцать тысяч целковых профершпилила!
— Пятнадцать тысяч, матушка! Боже ты мой! — крикнул было Потапыч, умилительно всплеснув руками, вероятно, предполагая услужиться.
— Ну, ну, дурак! Начал еще хныкать! Молчи! Собираться! Счет, скорее, скорей!
— Ближайший поезд отправится в девять с половиною часов, бабушка, — доложил я, чтоб остановить ее фурор * 360 С. 669. Фурор — ярость, неистовство (франц. fureur, итал. furore).
.
— А теперь сколько?
— Половина восьмого.
— Экая досада! Ну всё равно! Алексей Иванович, денег у меня ни копейки. Вот тебе еще два билета, сбегай туда, разменяй мне и эти. А то не с чем и ехать.
Я отправился. Через полчаса возвратившись в отель, я застал всех наших у бабушки. Узнав, что бабушка уезжает совсем в Москву, они были поражены, кажется, еще больше, чем ее проигрышем. Положим, отъездом спасалось ее состояние, но зато что же теперь станется с генералом? Кто заплатит Де-Грие? Mademoiselle Blanche, разумеется, ждать не будет, пока помрет бабушка, и, наверное, улизнет теперь с князьком или с кем-нибудь другим. Они стояли перед нею, утешали ее и уговаривали. Полины опять не было. Бабушка неистово кричала на них.
— Отвяжитесь, черти! Вам что за дело? Чего эта козлиная борода ко мне лезет, — кричала она на Де-Грие, — а тебе, пигалица, чего надо? — обратилась она к mademoiselle Blanche. — Чего юлишь?
— Diantre! [131] Черт возьми! (франц.).
— прошептала mademoiselle Blanche, бешено сверкнув глазами, но вдруг захохотала и вышла.
— Elle vivra cent ans! [132] Она сто лет проживет! (франц.).
— крикнула она, выходя из дверей, генералу.
— А, так ты на мою смерть рассчитываешь? — завопила бабушка генералу, — пошел! Выгони их всех, Алексей Иванович! Какое вам дело? Я свое просвистала, а не ваше!
Генерал пожал плечами, согнулся и вышел. Де-Грие за ним.
— Позвать Прасковью, — велела бабушка Марфе.
Через пять минут Марфа воротилась с Полиной. Всё это время Полина сидела в своей комнате с детьми и, кажется, нарочно решилась весь день не выходить. Лицо ее было серьезно, грустно и озабочено.
— Прасковья, — начала бабушка, — правда ли, что я давеча стороной узнала, что будто бы этот дурак, отчим-то твой, хочет жениться на этой глупой вертушке француженке, — актриса, что ли, она, или того еще хуже? Говори, правда это?
— Наверное про это я не знаю, бабушка, — ответила Полина, — но по словам самой mademoiselle Blanche, которая не находит нужным скрывать, заключаю…
— Довольно! — энергически прервала бабушка, — всё понимаю! Я всегда считала, что от него это станется, и всегда считала его самым пустейшим и легкомысленным человеком. Натащил на себя форсу, что генерал (из полковников, по отставке получил), да и важничает. Я, мать моя, всё знаю, как вы телеграмму за телеграммой в Москву посылали — «скоро ли, дескать, старая бабка ноги протянет?» Наследства ждали; без денег-то его эта подлая девка, как ее — de Cominges, что ли, — и в лакеи к себе не возьмет, да еще со вставными-то зубами. У ней, говорят, у самой денег куча, на проценты дает, добром нажила. Я, Прасковья, тебя не виню; не ты телеграммы посылала; и об старом тоже поминать не хочу. Знаю, что характеришка у тебя скверный — оса! укусишь, так вспухнет, да жаль мне тебя, потому: покойницу Катерину, твою мать, я любила. Ну, хочешь? бросай всё здесь и поезжай со мною. Ведь тебе деваться-то некуда; да и неприлично тебе с ними теперь. Стой! — прервала бабушка начинавшую было отвечать Полину, — я еще не докончила. От тебя я ничего не потребую. Дом у меня в Москве, сама знаешь, — дворец, хоть целый этаж занимай и хоть по неделям ко мне не сходи, коль мой характер тебе не покажется. Ну, хочешь или нет?
Читать дальше