В полдневной тишине она была повсюду, она была нигде.
Все теперь было отвратительно Олегу; море не звало купаться, горы не звали бродяжничать, ступать по песку было тяжело, как по клею, есть не хотелось, и только что ночью сон-спаситель не бежал с глаз. После обеда они теперь все вместе, кроме Тани и ее нахала, все вместе впав в черную меланхолию-мрачность неудачного лета, собирались играть в карты под деревом на одеяле или на тюфяке в палатке, которая, просвеченная солнцем, казалась арабским розово-желтым полосатым шатром. Надя ссорилась со своим атлетическим славянофилом, он грубо, по-хозяйски ругал ее за карточные ошибки… «А что ты вообще умеешь, ну ладно, сдавай… Ладно». Православная барышня, не выдержав жары и собираясь уезжать, смотрела на все огромными, непомерными глазами, в которых недоумевала грусть.
Человек-обезьяна был погружен в свои необъяснимые испанские мысли, он теперь подвязывал волосы ремешком по-индейски, у кисти накручивал какую-то тесьму, показывая в этом доисторическую дикарскую элегантность в украшении своего совершенно голого тела. Аполлон Безобразов, высохший и заросший бородой, состязался в неподвижности с камнем, на камне превращаясь в камень, отсутствовал и, на удивленье всем, читал Олеговы с таким трудом и так бесполезно на спине принесенные книги.
И куда это делись без следа все многодумные книги Олега, все толстые тетради его, вдоль и поперек исписанные. Все это оставил Олег в Париже. Уже месяц целый он не читал, не писал, не молился. Дикая свобода от Бога и страх Бога сопровождали его повсюду. Так, казалось, лицом к лицу с миром, без защиты и без утешения, он свежее встретит незнакомую ему жизнь, а жизнь, как нестерпимое солнце, не скупясь била ему в лицо.
Оба товарища совершенно перестали понимать друг друга. Аполлон смеялся над Таней, и Олег в отчаянии искал защиты в тени его души. Но отдохнув немного, анестезировав боль на мгновение, он, как от сна на песке, вскакивал и с тяжелой головой принимался искать Таню. Он больше не молился, как обычно подолгу имел обыкновение делать, и страх, как падающий камень, висел у него над головой. Он вырвался из Бога, убежал в какие-то доисторические леса, рыскал, всклокоченный, по раскаленному бурелому, и тем безудержнее, беззащитнее сердце его растворялось, рвалось, кипело, отрывалось от него. По временам боль становилась невыносимой, казалось, все внутренности его разрывались, болели глаза, пальцы, волосы, губы, плечи; он выл, плакал, бросался на землю, но чаще всего это было тяжелое оцепенение какого-то недоумения. Ноги и руки казались огромными, налитыми кровью, распухшими от солнца, и их невозможно было поднять. От жары все обесцвечивалось, теперь все было серое, черное, голубоватое. Есть было почти невозможно, да и нечего было есть. Олег разучился готовить, ел только то, что ему подсовывал Безобразов, жевал, не глядя, или, потеряв всякий стыд, подъедал остатки на кухне, где с какой-то презрительной печалью экономка подкармливала его, догадываясь о его состоянии.
Эта экономка, еще молодая женщина с одутловатым иконописным лицом, как-то болезненно-драматически относилась к Тане и к Наде. Она их вынянчила, но воспитать не сумела, и они, как два славянских утенка, высиженных еврейской наседкой, как два угря, выскользнули у нее из рук в темное болото французского лицея, рано замкнулись в недоброй скрытности. Восторженная и незамужняя, она возмущалась ими с нездоровой страстностью бездетного существа и все рвалась сказать, что все Танины истории суть просто «похоть», и это постыдное православное слово в ее устах до неприязни смущало Олега, но, изувеченный больной своей любовью, он поддакивал ей во всем, сидел на кровати, доедал остатнее, находя странное удовольствие по-бабьи приживаться на кухне, чистить горох и без конца слушать патологически раздутые истории ранних Таниных изуверств. Но одна все-таки его поразила, а именно: история о том, как Таня назло, чтобы испытать силу своей воли, своей рукою раздавила, задушила голубя, которого часто любила держать в руках, наслаждаясь его элегантной хрупкостью…
Грусть его забитого детства просыпалась в нем, давняя его любовь к ночникам, чуланам, сортирам, кухне, прислуге, к задним дворам, улицам, вечеру, снегу того времени, когда он в венке из воска отказывался жить.
Ночи теперь начинались раньше. Вечерами они с Аполлоном Безобразовым подолгу сиживали на парапете набережной, молча смотря, как под платанами, расцвеченными разноцветными фонариками электрических звезд, уродливо-беззаботная толпа медленно танцевала среди белых плетеных кресел. Возвращались они уже в темноте и, вдруг вынырнув из зарослей к морю, останавливались в недоумении. Близко от берега, факелом освещая воду, скользила большая лодка, полная совершенно неподвижными людьми. Желтое пламя ярко горело, огненными каплями обтекая в воду, глубоко освещая ее, и от светлого места под водой расходились лучи. Прибрежные кусты казались оранжевыми.
Читать дальше
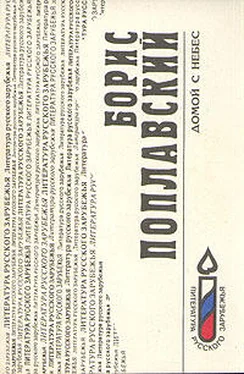
![Борис Сапожников - Шаг в небеса [СИ]](/books/29931/boris-sapozhnikov-shag-v-nebesa-si-thumb.webp)







