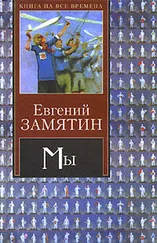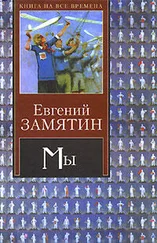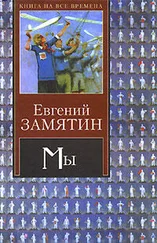«Ничего! Эта — всякий, шторм выдержит!» — Цыбин влюбленно поглядел на ёлу.
— Давай, давай конец! Не копайся! — кричал с бота Фомич.
Цыбин свернул конец петлею и бросил на бот. На своем веку он перебросал так тысячи концов, но как будто делал это сейчас в первый раз, руки не слушались, на него глядели с бота Фомич, белоголовый Олаф. Олаф поймал и закрепил конец. Цыбин перешел на бот и стал к рулю, сердце у мотора застучало, из трубы выстрелил дым. Хозяйка с узелком стояла на берегу. Цыбин увидел: к ней подбежала собака, понюхала платье, ткнулась носом в руку — и вдруг, поджав хвост, с лаем отбежала в сторону. «Руки холодные»… вспомнил на секунду Цыбин и сейчас же забыл, в голове было совсем другое. Буксирный канат уже вылезал из воды, натягивался, ёла дрогнула всем телом и пошла. Это была его, Цыбина, ёла, и она завтра, и зимою, и всегда — будет его…
— Эй, эй! Впереди гляди! Успеешь еще налюбоваться, — крикнул Фомич.
Цыбин покраснел, встряхнулся, отогнул край зюйдвестки, чтобы не лез на глаза. Проходили мимо парохода. Это был норвежец, на нем тарахтела лебедка. Над водою был виден весь его черный борт и большой кусок подводной части, окрашенной красным: пароход сбросил на берег уже почти весь груз и высоко вылез из воды.
«Эх, на ёлу не положили грузу… — подумалось Цыбину. — Высоко она сидит. Нехорошо, если ветер».
Но он знал: ничего теперь не могло, не должно случиться, все было счастливое, легкое, солнце летело. Ветер переменился и, остро посвистывая в снастях, сейчас дул слева, с полуночи. Что ж, еще лучше: опять будет попутный, поставить паруса и, глядишь, к ночи — уже дома, к ночи ёла будет уже стоять на месте, утром все соберутся на нее глядеть… Эх, хорошо жить!
Цыбину хотелось крикнуть об этом Фомичу, но Фомич, надвинув кустом брови, хмуро, одноглазо смотрел на север. Цыбин налегнул на погудало: уже сворачивали в океан, огибали берег из огромных круглых камней, они все выше дыбились друг над другом, будто поднятые бурей и навеки остановившиеся волны.
Когда свернули, Цыбин увидел на севере темную стену. За какой-нибудь час она выросла, казалась теперь уже высотою с человека, и над ней, над самым краем, неслось солнце. Маленькой черной мошкой под солнцем бежал бот. Холодная, зеленая шкура, по которой ползла мошка, еще лоснилась, зверь дремал.
Над крышей мотора высунулось круглое, красное лицо Клауса, он паклей обтирал пот. Фомич подошел к нему и сказал.
— А ведь догонит нас шторм. Прибавь ходу… — Потом поглядел одним глазом на Цыбина и помотал головой: — Хм… Оно!
— Ничего-о! Ла-адно! — крикнул ему Птабин. Весь он напружен, как парус под ветром, когда все снасти дрожат от радости и поют. Ёла шла сзади, чуть вспенивая штевнем воду, золотая верхушка ее мачты покачивалась в небе. Все было удивительное, голубое, прекрасное — и так останется навсегда.
Из короткой трубы над кубриком показался дымок: там Олаф кипятил чайник. Фомич нагнулся к дверям и закричал:
— Эй, ты! Не до чаев теперь! Иди к парусам — живо!
Олаф выскочил, на бегу высморкался, обтер пальцы о свои белые волосы и потянул шкот. Деревянные кольца скользнули вверх по мачте. Паруса надулись грудями, в воде справа легла черная тень. Каменный берег теперь чуть виделся сзади легким, осевшим в море облачком. Впереди была вода, пустыня. На севере быстро вырастала, нагибалась все ближе тяжелая серая стена.
Одну секунду солнце покачалось на краю стены — и сорвалось вниз. За стеной все вспыхнуло, несколько мгновений верхушка стены была медная, потом потухла — и оттуда вдруг дохнуло холодом, тьмой, как будто раскрылась дверь в подземелье.
С Цыбина сорвало зюйдвестку, он засмеялся — хорошо! — и крикнул Олафу: «Лови!» Олаф погнался, прижал шляпу ногой к палубе, подал Пыбину. Бетер с маху ударил в паруса, бог накренился, покатилась и грохнулась в борт бочка, Олаф побежал за ней.
— Куда, куда? Брось… после! — кричал, стоя у мачты, Фомич. — Рифы бери да парусах, поворачивайся!
Складками подтянули снизу оба паруса, ветер теперь упирал в них меньше, бот выпрямился. Цыбин оглянулся на ёлу: ода шла ровно, спокойно, она так же, как Цыбин, знала, что все будет хорошо.
Ветер сейчас ударил только один раз, — и где-то, сколько видно глазу, всюду мчались по черной воде белые гребешки. Торопясь, наскакивая друг на дружку, они неслись как перепуганное, почуявшее опасность, стадо. Над крышей опять высунулось круглое лицо Клауса. Он поглядел в небо, что-то по-норвежски сказал брату, Олафу.
Читать дальше