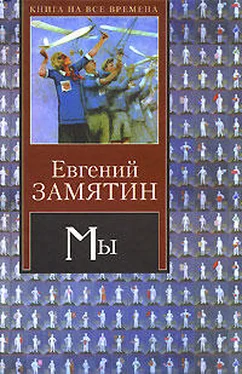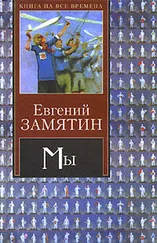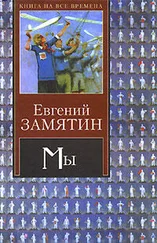Все выше взымает солнце, все беспощадней. Вороха лучей насыпаны в ржаном поле — рожь стоит золотая, жаркая и тихонько, матерински-довольно колышет колосья. Яблоки в садах стали темно-желтыми и качаются, каждый миг готовые отдать кому-то свою сладость. В поповом саду погасли все нежные весенние цветы, горят только красные спелые пионы и пьяные маки. За Куйманским лесом пруд весь зарос темной зеленью, из пруда по ночам выходят русалки и напролет до утра, заломивши руки, тоскуют на берегу; уж поздно, отошло их время, прошла Русалочья неделя, не успели залучить себе парня, девушками останутся еще на целый год. Одна надежда на Ильинские куны: закружатся парни в кунных кругах, завихрят их девки, запутает в серебряную паутину паук-месяц: может, попадет какой по ошибке в русалочий хоровод…
Ильин день — престол в Куймани, ярмарка. Всю ночь скрипят колеса мимо лабаза по крутому взволоку. Лабаз открылся с самого рассвета; желтый, лысый, вышел лабазник Аверьян на порог, ухмыльнулся: телег кругом — сила, как стан татарский заполонили весь базар, торчат вверх оглобли, лошади машут хребтюгами с кормом, руки выплескиваются и опять ныряют вниз рыбой.
Увидали Аверьяна, огарнули: кому деготьку, кому шорного товара, кому жамок, кому аспидную доску — ребятенкам на забаву.
И только, было, руки — целые веники из корявых рук с деньгами — встопорщились перед Аверьяном на прилавке, как уж и закрывать надо: вдарили к обедне.
С сердцем перекрестился Аверьян:
— Ах, ешь твою… Мать Пресвятая Богородица…
Очистил нос направо и налево, застегнул пиджак и лицо — будто застегнутое двунадесятое стало лицо — и пошел в церковь.
За обедней жара, чуть не гаснут свечи, однако же парни в поддевках и в новых резиновых калошах: что поделаешь, дело молодое, всякому покрасоваться лестно.
Ребята вьются, шныряют где-то под ногами, получают подзатыльники, хнычут и, глядишь, опять уж хихикают, неслухи, опять невесть что выкомаривают.
Девки, чинные, дивуются — ведомо на что. Первое — на коровинских баб: бог весть каким чудом уберегли коровинские весь старый наряд и строго его блюдут. Все вместе, островом, стоят в церкви, важные и чудные, и не наши какие-то. Повойники от матерей, от бабок достались, пронизаны серебряной монетой; убрусы шелковые накрахмалены — рогами стоят над головой; поневы нарядны — домотканые, синие, с красной ластовицей, с бахромкой, с узором.
А на другое дивуются девки — на Марьку. Запевала, певунья наша, что с ней сталось! Первая затейница да задорница, и в церкви-то, бывало, на нее угомона нет, а нынче стоит, не шелохнется, у Спасова образа, глаз не сводит. На белом плате — Нерукотворный Лик, светлокудрый, глаза не поднятые. И молится Ему с жаркой любовью и с ненавистью. И это Его голос из алтаря, повелевающий всем преклонить голову, — и так радостно преклонить перед Ним голову. И это Он в золотых ризах с крестом на амвоне…
Целует Марька холодную медь креста, потом — руку. И такие у ней губы — жадные, сухие, раскрытые, как трещина в бездорожной земле. Рука отдергивается, с дерзкой надеждой Марька поднимает глаза вверх. Но там все тот же на белом плате Нерукотворный Лик.
И вот кончилось, хлынули.
На паперти обступили Марьку. Пестрые, красные, солнечные, говорливые.
— Да неужто же не пойдешь, Марька? Как же мы без Марьки! Уж без Марьки какие же куны?
Звонит веселый колокол. Звонит солнце. Растормошили, отступило что-то назад, проснулась Марька. Кому-то в ответ хочется сделать злое и сладкое, подмигнула плечами и пошла, припечатывая каблуками. Через два шага в третий: эх-эх да эх.
— Постой, постой, на паперти, что ты!
Куда там… за ней — заметелились — подняли кулеберду по всему по селу, докатились вихрем до самой ярмарки. Солнце между скученных оглобель лошади с вымоченными квасом и расчесанными гривами, и нечесаные, как лешие, цыгане около них; берестяные коробки, глиняные свистульки, маковники, неистовые поросята в торбах, бабы — беременные с ребятами на руках.
Какая-то развытная девка свистнула пригоршню жамок в ларьке — и рады все, заливаются: дороже им эти жамки, чем купленные. Завертели по дороге пьяненького дядю, потащили, как русалки, щиплют, хохочут.
Только завернули за Аверьянов лабаз — вот они, парни, ватагой табунят по улице. И уж конечно: верховодит не кто иной — Яшка Гребенщиков, кузнец.
Звонит колокол, звонит солнце. Но все где-то далеко, во сне: церковь, ярмарка, Куймань, гомон, пыль, расписные дуги, синие цыганские жупаны, топот, свист. А жизнь, неспешная, древняя, мерным круговоротом колдующая, как солнце, — здесь на выгоне.
Читать дальше