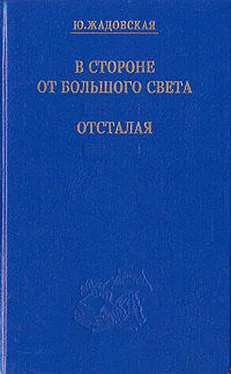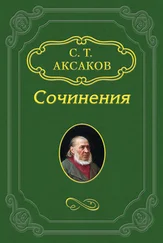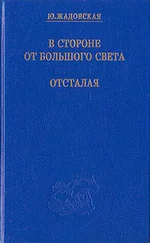— Генечка! — говорила она тоном строгости, — эй! привыкнешь смеяться поминутно, будешь смеяться и в обществе.
Добрая тетушка! как она ошибалась: привыкнуть быть веселой! как будто это возможно.
Я смеялась только с Лизой, а без нее была иной человек; да и при ней часто вдруг набегали на меня минуты безотчетной тоски, я садилась в угол и плакала. Мы не смеялись, когда в сумерки смотрели в окно, как догорала заря или носились серые облака. Тут мы или молчали, или говорили не по-детски о предметах высоких и недоступных нам, решая по-своему вопросы, волновавшие наш ум. Я старалась заинтересовать мою подругу тем, что сама считала высоким и прекрасным. Лиза, впрочем, терпеть не могла отвлеченных разговоров, и когда я замечтаюсь, она всегда, бывало, прервет меня:
— Ну, мать моя, ты уж пошла рассуждать, точно ученая.
Я падала с облаков и становилась в уровень с ее положительностью, которая исчезала только тогда, когда мы начинали играть.
Жизнь моя разделилась незаметно на две половины: на жизнь с Лизой и на жизнь без нее. Все время одиночества я посвящала на чтение и на беседу с тетушкой, которой рассказы были для меня приятны и занимательны. Но не всегда рассказывала тетушка: часто она поучала и читала длинные нотации, которые я слушала с наружным терпением; но несмотря на то, многое оставалось у меня в сердце, и я часто сознавала внутри себя, что тетка говорит правду. Так ее речи были иногда полны истины. Приезд учителя не нарушил моих свиданий с Лизой; она приходила ко мне только часом позже утром и уходила часа на полтора после обеда учиться, и то не всякий день. Об учителе разговоров у нас было немало. Она пересказывала мне каждое его слово, иногда посмеивалась над ним; говорила, что у него много стихов, что он привез с собой десятка два книг. Говорила также, что он спрашивал обо мне, что просил ее кланяться мне и просит у меня книг, потому что он умирает от скуки.
Я знала неряшливость, царствовавшую в доме Марьи Ивановны, и понимала, как тяжело было мало-мальски порядочному человеку жить тут, не имея с кем перекинуться мыслью. Я посылала ему книги, и когда получала их назад невольно перелистывала их… некоторые места были подчеркнуты карандашом…
А между тем апрельское солнце сгоняло последний снег, и сад принял какой-то зеленовато-бурый оттенок. Иные аллеи начинали уже просыхать, и дикий цикорий зацвел на завалинах у стен дома. Мы обдумывали с Лизой, как бы попроситься у тетушки погулять, и сердце мое замирало при мысли об отказе. Наконец в один теплый день вошла я к тетушке. Она сидела за книгой и шепотом читала.
— Что ты, Генечка? — спросила она, заметив меня.
— Тетенька! отпустите нас погулять, очень тепло, спросите Федосью Петровну…
Тетушка выходила на воздух только в самые жары. Тут же кстати вошла и Федосья Петровна.
— А что? тепло на дворе, Федосья? — спросила тетушка.
— Тепло, хорошо, сударыня. Али детям погулять хочется? Отпустите, матушка! тепло сегодня, не простудятся.
Никогда не забуду той радости, которую я чувствовала при этом решении.
За дверьми тетушкиной комнаты ждала меня улыбавшаяся Лиза; она радовалась больше за меня, чем за себя, потому что прогулка не имела для нее такой новизны и прелести, как для меня. Я прыгала, как козленок, и обнимала всех горничных. Через несколько минут явилась Федосья Петровна с целым возом на руках разной одежды. Я с ужасом глядела на толстый ватный капот и тетушкину меховую кацавейку, на платки и кофточки, которые должны были накутаться на меня. Радость моя несколько помрачилась при мысли, что я едва буду в состоянии поворотиться, не только бегать.
Начался процесс одеванья.
— Федосья Петровна! да вы меня задушите, — говорила я умоляющим голосом.
— Ничего, сударыня, — отвечала она, — простудитесь — хуже будет; куда мы тогда поспеем? все будем виноваты у тетеньки.
Наконец, задыхаясь от жару, скорее похожая на копну сена, чем на живого человека, вкатилась я к тетушке, увлекаемая вперед собственною своею тяжестью.
— Тетушка! мне душно, мне жарко! — восклицала я почти со слезами, — нельзя ли снять хоть кацавейку?
— Смотри, не простудись, Генечка! не срази ты меня…
— Да этак я хуже простужусь, — замечала я чисто инстинктивно.
— Не снять ли уж и вправду кацавейку, Федосья, ежели очень тепло?
— Как прикажете; оно тепло-то, тепло… ветерочек есть маленький.
— Вон, видишь ли, Генечка, ветрено, говорят.
— Да какое ветрено, тетенька! посмотрите, деревья не качаются…
Читать дальше