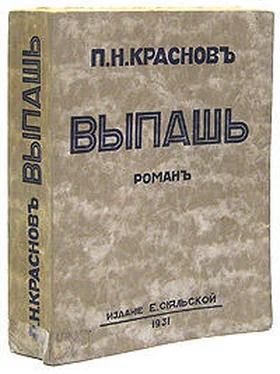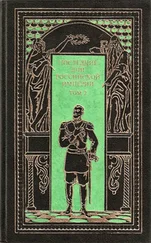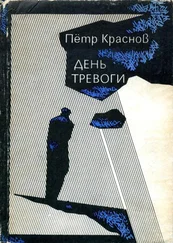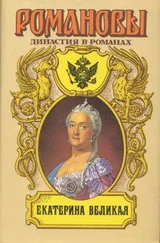Валентина Петровна молчала. Она, как в изнеможении, села на край оврага и задумалась. "Господи", — думала она, — "да ведь живешь-то для себя… Для себя!..
Йоги?.. Да, это у йогов, кажется, сказано: — "все живое Я создал из моего дыхания, и каждое из Моих творений имеет право жить и питаться"… Да, то йоги… брамины… А мы — православные… Религия самоотречения и любви… Религия, где в огне сгорают за веру, где идут на муки с пением псалмов, или умирают с этим гордым: — "Христос воскрес"!..
— Ну, пойдемте, барыня, а то смеркнется, а теперь и тут волки появились…
Долго ли до греха-то.
По оттаявшей за день тропинке, где скользили ноги и черноземная грязь налипала на башмаки Валентины Петровны, они спустились в хутор. Уже издали увидала Валентина Петровна Парамона Кондратьевича. Он стоял в белой рубахе и на плечи накинутом азяме. Он был величествен и непроницаем. Мудрость была в его глазах.
Он уже непонятным образом все знал. В его руках был большой деревянный крест. Он высоко поднял его навстречу подходившим к хате женщинам и громко, сурово и торжественно сказал:
— Не бойтесь убивающих тело, душу же не могущих убить.
Весною пришла на хутор весть, что будут всех жителей писать в колхозы. Из города пришли люди. Валентина Петровна пряталась от них на огороде. Разговоры вел Парамон Кондратьевич. С ним говорил молодой совсем парень-комсомолец. Наглости в нем было достаточно, да наглость эта еще подкреплялась нарядом красноармейцев, сидевших тут же с ружьями с примкнутыми штыками. Молодой наглый парень, посмеиваясь над деревенской серостью и темнотою, разъяснял, что теперь все будет общее, и труд, и удовольствия. Скотину и лошадей требовалось сдать в общественные коровники и конюшни, людям будет отведена одна общая хата-казарма.
Работать теперь будут по наряду и что наработают, будут делить поровну, и это будет не чье-нибудь частное, а общее, государственное.
— Ну, словом, лучше некуда, — твердо сказал Парамон Кондратьевич, — настоящее крепостное право, только вместо бар — жиды…
Комсомолец смутился.
— Эх, старик, ну посмотрю я на тебя — и какой же ты несознательный… Ты вот и богов-то не убрал… Все, как есть у тебя, как было во времена царизмы…
Портретов вождей социализмы нет у тебя. Сам, поди, понимаешь, что это нехорошо и как ты за это самое ответить можешь.
Парамон Кондратьевич строго взглянул на «краскома» и твердо сказал ему:
— Ты мне святые иконы богами не смей называть. Не говори, чего не понимаешь и понимать не можешь, потому мало чему путному учен. Бог един — и не тебе, паршивцу, о Нем говорить и нам чего указывать. Своей сатанинской власти скажи: — рабами ее не будем!.. Как освободил нас батюшка царь Александр Второй, так свободны будем и свободными и умрем. Понял?..
В хате Парамона Кондратьевича было собрано человек двадцать хуторян. В ней стало грозное молчание. Комсомолец посмотрел на красноармейцев. Те сидели, опустив головы. Бледны и хмуры были их лица.
Он начал было говорить, что его не так поняли, что социализма — это есть свобода, равенство и братство, что она направлена против богатых, а бедных она защищает от эксплуатации капиталистами. Молчание слушателей становилось все грознее и грознее, он невольно вспомнил о тех, кто был тут в лесах убит из крестьянского обреза, замолчал и скоро "смылся".
Но разговоры о колхозе не замолкли. Стали на хуторе болтать, что вышел от народной власти и такой приказ, что жены и девки будут общими, что в хате-казарме будут устроены общие нары, где все и будут спать вповалку — и вперемешку мужики с бабами. Для покрытия свального греха от власти будут выданы общие десятиметровые одеяла.
Валентина Петровна слушала эти разговоры. Они ее не удивляли. От этой власти всего можно было ожидать. Она вспомнила Ермократа. Вот, когда он задушит ее, ляжет с нею под общее десятиметровое одеяло и ночью вопьется своими длинными пальцами в ее шею, как впился когда-то в шею Портоса.
Она теперь знала, что смерть, и смерть скорая, неизбежна. Но, странное дело, прежде, когда думала о смерти, казалась ей смерть мучительной, жестокой и непереносимой. Трепетала всем своим телом, когда думала о смерти. Казалась ей смерть несправедливой и жестокой. Теперь, как и тогда в чрезвычайке на Гороховой, вдруг примирилась со смертью. И тогда поняла: — смерть это как путешествие.
Когда оно далеко, и надо думать о нем, видишь все трудности, что надо одолеть.
Читать дальше