Саша взял табурет и поставил возле кровати деда — быть может, сделал все это даже чуть громче, чем можно было, — самодвижение, производимый шум будто затирали ощущение тоскливой болезненности происходящего.
Дед еле приметно покосился на усевшегося рядом Сашу — дрогнуло веко, блеклая отметина зрачка шевельнулась, и веко вновь смежилось, пустив малую слезинку, сразу же затерявшуюся в морщине.
— Скоро поедешь-то? Побыл бы… Подожди, пока помру… Скоро помру… Похоронишь хоть. А то бабке одной… Бабы хоронить будут. Нет больше мужиков…
«Наверное, в таких случаях говорят: «Как же ты помрешь, дед, ладно тебе! Полежишь и встанешь скоро!» — подумал Саша и промолчал.
— Сколько лет прожил, не помню, чтобы бабы кого хоронили… В городе-то есть еще мужики?
Саша слабо улыбнулся.
— Есть, — сказал громко, чтобы хоть что-то сказать.
— А у нас все перемерли. Я последний. Все при мне родились, при мне все росли, и все перемерли. Всех похоронил… И своих, и чужих. Дед замолчал и долго лежал молча.
— Не ем ничего, а все не могу помереть…
Еще помолчал.
— Мою ложку серебряную — помнишь? — возьми, как помру. Мне отец мой ее дал. Теперь твоя будет.
Саша помнил эту ложку — тяжелая, красивая. Бабушка говорила, что дед этой ложкой своих малых пацанов лупил по розовым лбам, если баловали за столом. Саша не верил. Такой ложкой убить можно. Да и не в характере деда все это. Саша подумал, что ни разу в жизни не слышал, как дед кричит, — он никогда не повышал голоса и никогда не бранился матерно. Недовольство свое показывал жестом. Как-то приехал Саша с отцом в деревню, лет пять тому назад. Деду уже под восемьдесят было. Пришел дядя Коля, и весь вечер они пили, и еще полночи пили. Утром сели позавтракать, похмелиться. Бабушка, слышавшая, как дед тяжело дышал во сне, решила его поберечь и, разливая самогон, сыновьям налила по полной, а деду чуть выше половины. У деда ни единый мускул не дрогнул на лице — ленивым движением, горбушкой правой руки он двинул стакан, не резко, но так, чтобы уронить его; дав резкий запах, самогон разлился на столе. Затем дед встал и отодвинул стул, будто выходить собрался.
— Сиди уж, леший! Сиди! — запричитала бабушка. В мгновенье протерла стол, поставила стакан, наполнила до краев и ушла, ругаясь, — но ругаясь в меру, негромко и незлобно, издавна ведая меру, за какую перейти в порицании мужа нельзя.
Дед сел, выпил спокойно, и никогда бабушка больше не пыталась своей волей недолить ему, и никто об этом случае вслух не вспоминал.
Саша смотрел на деда, тот будто задремал. Саша встал осторожно.
На улице стояла смурь, сизая сырость, особенно неприятная летом.
Деревня не подавала ни единого признака жизни. Возле все той же вчерашней лужи стоял все тот же мальчик, с хворостиной в руке. Шипя, он бил по своему грязному отражению и отскакивал от лужи.
От вида ребенка, возможно, щемило бы сердце, если б не стояла на сердце тихая пустота.
— Встал Санькя, что встал-то, — сказала бабушка, шедшая со двора. — Пойдем завтрекать.
Яичница с салом, помидорами и кабачками — неестественно яркая, словно рисунок ребенка, — источала аромат, подрагивала и побрызгивала, как живая и радостная.
«Интересно, а если стариков заставить рисовать — их рисунки будут такими же яркими, как у детей?» — подумалось Саше.
Самогон туманился, хлеб спокойно темнел, суровый. Хлеб всегда самый суровый на столе, знает себе цену.
Саша все быстро съел и сказал, что пойдет погуляет. Он двинулся от дома под горку к реке. Вспомнил, как дитем, идя этой же дорожкой, встречал гусей соседки и подолгу не мог пройти мимо — вытягивая шею, наперерез топал гусак, пакостная птица. Сашка отскакивал и, оборачиваясь в ужасе, бежал, высоко подкидывая колени. Затем подолгу стоял в отдалении, переступая темными ножками, как малая лошадка. Если кто шел по дороге, Сашка присаживался и делал вид, что играет в камушки, — стыдно было, что гуся боится. Человек проходил, шуганув гусей, и они отбегали, расправив крылья и гогоча, как дурные.
Вспоминая себя, свою жизнь, Саша только того мальчика и любил, темноногого, в царапках. Потом, выпростав белую шею, из этого малыша вымахала белотелая, ссутулившаяся дурнина, глупо ухмыляющаяся и несущая прочие подростковые приметы. Саша не вспоминал свою подростковую пору, всегда обходил ее стороной. Суетливый, задиристый, неприятный — хочется разве вспоминать такого.
Сейчас гусаков не было.
Мостки на речке кривились, поломанные.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
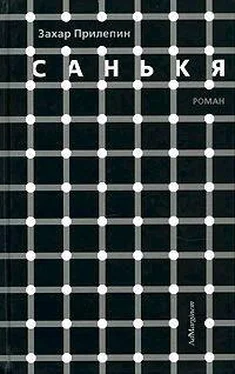
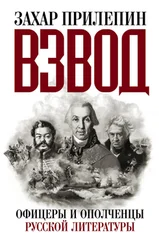






![Захар Прилепин - Всё, что должно разрешиться. Хроника почти бесконечной войны - 2013-2021 [litres]](/books/430624/zahar-prilepin-vse-chto-dolzhno-razreshitsya-hronika-pochti-beskonechnoj-vojny-2013-2021-litres-thumb.webp)



