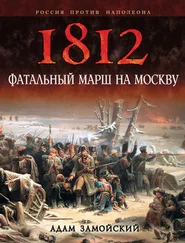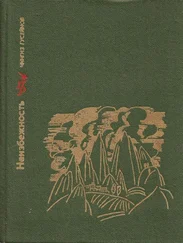Удивительное дело: то вдруг Шамиль знает такое сокровенное, что и самому себе не признаешься, а то наивен, как ребенок. "Мы сами хотим своими землями править, почему чужие?! Дружить, но не быть рабами!"
Фатали послан бароном к генерал-майору Клюки фон Клугенау; у Фатали располагающее на откровенность доверительное лицо, и с ним близ Гимры встретится Шамиль, надо убедить, уговорить его прекратить борьбу и явиться в Тифлис (???), куда прибудет вскоре сам государь.
Шамиль высокий, у него большие задумчивые серые глаза, сплошная жесткая щетина, сжал губы, и они не видны. "Ты погляди, как гибнут горы! ты видел кровавые горные реки?! они прежде всегда были чисты!" Неумолим. Но уже другой взгляд, умиротворенный, - пора молитвы, и Шамиль молится. Но отчего эту суру шепчут его губы: "Клянусь небом и идущим ночью!.. звезда пронизывающая... они ведь замышляют хитрость. И я замышляю хитрость. Дай же отсрочку неверным, отсрочь им немного".
Сколько бился над сурой Ахунд-Алескер, чтоб втолковать Фатали, а и сам не поймет.
Обещал и - обманул. Но кто первый? - выстрел снизу или камень сверху?! "Не я нарушил, - перевел Фатали письмо Шамиля, барон верит только переводчику своей канцелярии, - а вы, и я поднял оружие для собственной своей защиты, и дело сделалось по воле всемогущего Бога и великого Пророка".
Что ж, придется карать!
"... и на рассвете, подойдя к сему селению, окруженному лесом, послал казаков. Люди, искавшие спасение в бегстве, были пойманы и истреблены. Сопротивлявшиеся сделались жертвой своего отчаяния. Погибли на штыках егерей. Сакли горели. Деревня Кишкерой, состоящая из десятков дворов, с значительным запасом хлеба и сена, предана огню".
СТРЕЛЫ СМЕРТИ
- Ай да шекинец-нухинец, ай да хитер! - сказал Бакиханов, когда Фатали прочел ему свою восточную поэму на смерть Пушкина.
Но написал бы сам! А правда, подумал, почему не он? Ах, мундиииир!... "Наивный, наивный Фатали", - усмехается Аббас-Кули; во взгляде у него постоянно какая-то горечь; можно принять за высокомерие или за иронию: из ханского рода все же; а Фатали кто? И почти в сыновья ему годится; и по чину между ними пропасть.
Но почему не он, Аббас-Кули-ага Бакиханов?
А ведь знал, и очень близко знал, трех Александров (трех ли?): одного убили в Тегеране фанатики азиатцы, другого... кто же другого? поди ответь! дуэль?... Был недавно Лев-Леон в Тифлисе, брат поэта, штабс-капитан, будто яблоко одно разрезали пополам, так похожи, - виделись с ним в Петербурге, как всегда, беспечен, весел, вспоминали, как ругал поэт петербургский свет, мол, душен для него, и насчет отечественных звуков: харчевня, кнут, острог. И отец ему: "Ты неисправим!" Но ничто не предвещало беду. Нелепая гибель! А третий Александр - тот, кто будто бы за царя, а ведь посягал на его жизнь! и будто бы против горцев, а ведь воспел и воспевает их! Но горец о том не знал, когда целился в него. И когда нажал курок...
Что писать о них? И как напишешь? О первом, о втором, о третьем? Первого Фатали не знал, только наслышан; о втором и читал, и много слышал, глава поэтов, а третий - он еще жив, пуля горца еще не настигла его, Бестужев-Марлинский, и он поможет Фатали.
- А за хитрого шекинца-нухинца не сердись. Это я так, кто из нас не любит посудачить? Уколоть без умыслу, просто от безделья или беззаботного времяпровожденья, когда темы беседы иссякли, а время надо заполнить, вот и вспоминают то одного, то другого: "Ай да Фатали! Ай да хитер! Ай да шекинец!..." Я же любя!
Ты знал трех Александров и печалился об их судьбе. И он, тот, который будто бы за царя и будто бы против горцев, тоже сокрушался о судьбе Александров: "Я был глубоко тронут трагическою кончиною Пушкина... Я не сомкнул глаз во всю ночь и на рассвете дня был уже на крутой горе, ведущей в монастырь святого Давида. Придя туда, я призвал священника и попросил отслужить панихиду над могилой Грибоедова, над могилой поэта, попранного святотатственными ногами, без камня, без надписи! Я плакал тогда, как плачу теперь, - плакал горячими слезами, плакал над другом и товарищем по жизни, оплакивал самого себя. А когда священник запел: "За убиенных боляр Александра и Александра", я чуть не задохнулся от рыданий: этот возглас показался мне не только поминовением. Да, я сам предчувствую, что смерть моя будет также насильственна и необычна, и она недалеко от меня. Какая, однако, роковая судьба тяготеет над поэтами нашего времени. Вот уже трое погибли, и какою смертью!" Повешен. Растерзан. Убит.
И третий Александр - он сам.
Читать дальше