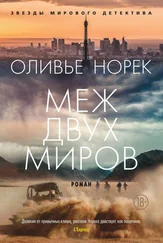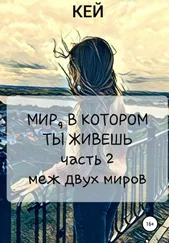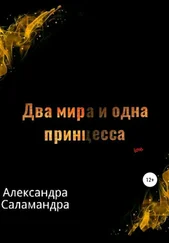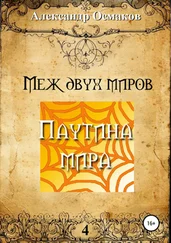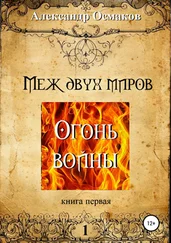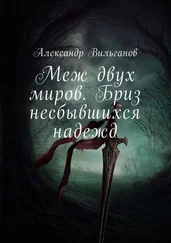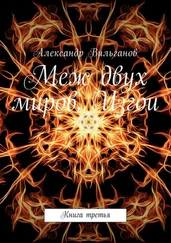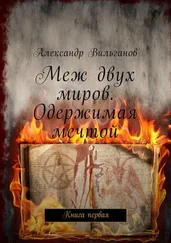Одним словом, если хотите получить точное представление о весеннем солнце, то представьте его себе славно выпившим, сытно закусившим и старинного друга увидевшим.
Серьезно говорить о смешных вещах - занятие трудное и неблагодарное. И все же отбросим пока юмористический смысл олицетворения и попробуем рассмотреть художественный эффект, созданный здесь.
Если не поддаваться соблазну ограничиться спасительной, но мало что объясняющей ссылкой на метафоричность художественного слова вообще и чеховского - в частности, можно обнаружить интересные закономерности.
Метафорическая наполненность олицетворений и во времена Антоши Чехонте, и сто лет спустя предстает стершейся, "остывшей".
Способность солнца в данном контексте "славно выпить, сытно закусить и старинного друга увидеть" подготовлена длительной фольклорной и литературной традицией, опирается она и на устойчивые общеязыковые формулы типа "солнце встало", "солнце смотрит" и т. п. Наше олицетворение словно вытекает из этих речений и становится как бы продолжением логического ряда, не несет принципиальной новизны.
Комический эффект в данном случае достигается нередким у Чехова намеренным нарушением семантической сочетаемости слов, автор просто выходит за привычные рамки такой сочетаемости.
Понятно, что в подтексте ситуации - соотнесение эмоционального состояния, вызванного весенним солнцем, с благодушным состоянием подвыпившего человека.
Но читая чеховский текст, мы все же видим подвыпившее солнце.
В сознании лишь на мгновение возникает человек, вернее - смутный облик "старинного друга", увиденного подвыпившим солнцем.
Не будем торопиться утверждать, что точно таким же был механизм восприятия рассматриваемой конструкции у первых чеховских читателей.
Современный читатель, хотим мы этого или нет, как правило, обладает эстетическим опытом восприятия книжных и журнальных иллюстраций, карикатур, а также мультфильмов, в которых олицетворения зачастую выступают как реализованные. Ему нетрудно представить себе подвыпившее солнце. Как нетрудно представить солнце пьющим чай за одним столом с поэтом В.Маяковским. С.8
Но чеховские современники в этом отношении беднее лишь тем, что касается мультипликации.
Рассказы Антоши Чехонте, публикуемые в юмористических изданиях, соседствовали с самыми разными иллюстрациями и карикатурами.
"Встреча весны", кстати, была напечатана в литературно-художественном журнале "Москва", который сопровождал иллюстрации пояснительным текстом. "Тексты обычно снабжались подзаголовком . Как была задумана и (см. в тексте, стр. 142: ), но дать обычный подзаголовок редакция не решилась: литературный материал был значительно богаче иллюстрации".
Думается, что работая для иллюстрированного журнала, Чехов особое внимание уделял зримости образов и отчасти даже - шел от иллюстрации.
Эти пространные рассуждения понадобились только для того, чтобы показать неправомерность или, во всяком случае, явную недостаточность ссылок на метафорическую природу олицетворений в подобных случаях.
Рассматриваемая конструкция неоднозначна, несет в себе ряд значений и оттенков, но определяющей все же является функция сравнения, ею все организовано и приведено к единству, ею обеспечивается цельность художественного образа. И в очерке "Встреча весны" солнце "светит так хорошо", как оно о б ы ч н о светит, когда "славно выпьет, сытно закусит и старинного друга увидит".
Отмеченный момент обобщения, генерализации придает картине окончательную завершенность и убедительность.
"Встреча весны" позволяет сделать вывод, что Чехов вполне овладел приемом, по крайней мере - применительно к жанру юмористического очерка. От первых опытов до "Встречи весны" писатель двигался в сторону усиления зримости создаваемой данным оборотом картины.
И это не случайно, поскольку "в формировании языкового образа з р и т е л ь н о м у представлению принадлежит решающая роль".
Но вскоре, в "маленьком романе", названном "Зеленая коса" (1882), эта конструкция предстает в ином ракурсе:
" - И это воля папы! - говорила она нам, и говорила с некоторой гордостью, как будто бы совершала какой-нибудь громаднейший подвиг" [С.1; 164].
В данном случае оборот "как будто бы" особо значимой роли не играет, и создаваемый им художественный эффект достаточно прост. Верность данному слову и свою решимость выполнить волю отца, выйдя замуж за указанного им человека, Оля Микшадзе воспринимает как подвиг.
Читать дальше

![Станислава Вертинская - Меж двух миров [СИ]](/books/414672/stanislava-vertinskaya-mezh-dvuh-mirov-si-thumb.webp)