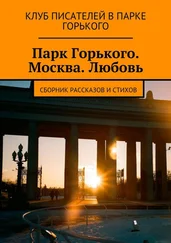- На вас никто не подумает. Вот как хорошо: никто на него не подумает! Честный мальчуганчик Мишенька!.. Являться он должен был, - так ему объяснили, - в старый особняк за больницей имени Склифосовского, всегда к одному и тому же человеку, всегда в один и тот же час - с двенадцать ночи. Особняк и особняк, - как множество старых особняков, - никакой вывески, никаких особых примет. Внутри - длинный коленчатый коридор, лестница на мезонин с уютным домашним половичком, тусклое освещение. В коридоре стулья против каждой двери, как в райсобесе. Все так невинно, мирно. Сидишь в полутьме и подремываешь, ожидая вызова. Вначале-то он, конечно, не очень подремывал. Вначале он нервничал, лихорадочно обдумывая, что скажет на этот раз, - чтоб было это убедительно и исчерпывающе и не вызывало дополнительных расспросов. Но довольно быстро он убедился в том, что никто ничего особенного от него и не ждет. Всем только того и нужно, чтоб ничего не предпринимать, ни на что не реагировать, - очень хорошо! - пусть колесо тем временем вертится. Именно это и успокаивало: равнодушное, будничное верчение колеса. Оно расслабляло, усыпляло бдительность. Да и работал тогда Михаил две с половиной смены, давал уроков по двенадцать в день, так что невольно начнешь в тишине и в полутьме подремывать. Всегда в одно и то же время мимо него проходил один и тот же человек, шел по коридору за угол, в другой кабинет. Михаил отводил деликатно взгляд, - да и тот, кажется, на него не смотрел, а если бы и смотрел, не разглядел бы в тусклом освещении. Но по контурам фигуры, появлявшейся в конце коридора, Михаил определял безошибочно: один и тот же. И в том, как один молча отводил глаза, а другой, не поднимая глаз, бесшумно проходил мимо, были какие-то неписаные правила все той же безрадостной и странной игры, в которую они оба играли. Потом Михаила вызывали. Чиновник, вызывавший его, всегда один и тот же, нажимал утопленную в столе кнопку, из боковой двери являлся один и тот же человек невзрачной наружности, так сказать, свидетель. Смотрел немигающим взглядом в лицо Михаилу, пока тот, взбодрившись, нес свою околесицу, - про здоровый коллектив, про Никодима Федотовича, то ли недооценивающего линию нашей партии, то ли нетактично обнажающего ее и сеющего, таким образом, в здоровом коллективе сомнения нездоровые. Ему, покивав на слова его головой, предлагали все это тут же записать. Он записывал. Потом подмахивал всю эту писанину подписью "Белёв". Так ему в самый первый раз посоветовали: "Вы своей фамилии не пишите. Вы какого города уроженец?" "Белёва". "Вот так и пишите - Белёв". Вертелось колесо. Иногда Михаил ловил себя на том, что испытывает к ночному своему собеседнику что-то вроде благодарности, - за то, что в тех обстоятельствах, в которые оба они попали, тот ведет себя наилучшим, а может, и единственно возможным образом, - не выказывая ни заинтересованности, ни недовольства. Один, - здесь, в кабинете, - пишет никого и ни к чему не обязывающую ерунду, а другой, заранее допуская, что все это - ни к чему не обязывающая ерунда, складывает ее в стол с глубокомысленным видом. И если кто-то здесь сейчас в дураках, то это тот, третий. А, может, и он из той же команды, только играет получше, истовее других, - и вертится, вертится на холостом ходу колесо, шелестят невидимые ремни, - государство бдит, государство охраняет себя от скрытых врагов... Но иногда все это давало сбой и сразу отрезвляло. И сразу - ни о каком братском соучастии, ни о какой благодарности речи быть не могло, - и Михаила, с этим инстинктивным жизнелюбием его, с этой человечной заполночной дремотой, с силой откидывало на незримые баррикады. Иногда чиновник за столом морщился: "Что значит "не знаю?". А вы пойдите, пообщайтесь, послушайте..." Или "Что значит "лояльный человек"? А вы разговорчик такой, знаете, заведите...". Вот когда было трудно! Обжигало, - словно в тот далекий, самый первый раз: за кого его, собственно, принимают? Но страшно было, гораздо страшнее, чем тогда, в первый раз, - он же не знал, что будет так страшно!.. Ведь он уже повязан был, - так, кажется, это называется на блатном жаргоне, - кто ж его, повязанного, так вот просто теперь отпустит! И он делал то, что ему было велено: шел на очередную учительскую вечеринку. И так, и эдак, между прочим, шел бы. Играл на гитаре, пел свое любимое "Марь Иванна, Марь Иванна, вы, как ангел, хороши", - и так, и эдак бы пел. А потом в особняке за Склифосовским записывал: "Был тогда-то и там-то. Никаких предосудительных разговоров не было.
Читать дальше