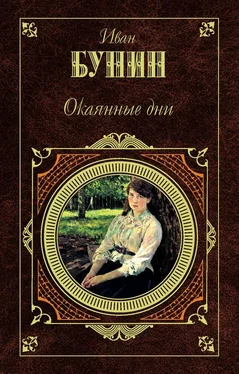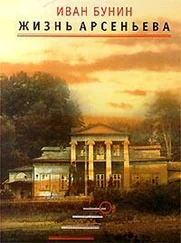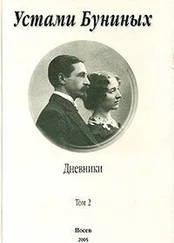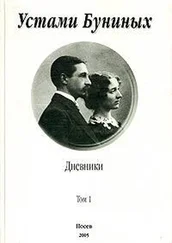Многие из этого общества были, как я понял впоследствии, очень типичны и по внешности, и по всему прочему. Некоторых я втайне уже не одобрил кое в чём: один, очень длинный и узкогрудый, был слишком близорук и всё сутулился, всё держал руку в кармане штанов и всё мелко тряс ногой, на которой лежала другая, чудодейственно заплетённая за неё винтом нога; другой, желтоволосый, прозрачно-жёлтый и худой лицом, говорил, как мне казалось, чересчур много, горячо и вдохновенно и, не глядя на папиросу, всё сбивал с неё пепел вытянутым костлявым указательным пальцем той же руки, в которой держал её; а следующий всё чему-то едко ухмылялся, делая то, что мне было особенно неприятно: всё катал по скатерти двумя пальцами катышку белого хлеба, уже давно ставшую грязной… Но зато некоторые другие были чрезвычайно милы: поляк Ганский с глубокими и скорбными глазами и запёкшимися губами, куривший неустанно, глубоко затягиваясь и поминутно поджигая и без того горящую папиросу дрожащей рукой; огромный ростом и живописно-кудлатый Краснопольский, похожий на Иоанна Крестителя; бородатый Леонович, который был старше и, как статистик, известней всех и сразу очаровал меня ласковым спокойствием, доброжелательной рассудительностью и, главное, необыкновенно приятным, чисто малорусским звуком грудного голоса; затем некто маленький, востроносенький, в очках, донельзя рассеянный, неистово пылкий, всё на что-то страстно негодовавший и вместе с тем такой детски чистый, искренний, что я тотчас же полюбил его ещё более, чем Лермонтова. Ужасно понравился мне ещё статистик Вагин, — статистик, как я узнал потом, такой заядлый, что для него, казалось, во всём мире не существовало ничего, кроме статистики, — крепкий, рослый, белозубый, по-мужицки красивый и весёлый, — он и был из мужиков, — хохотавший раскатисто и заразительно, говоривший крупно, окая… И ужасную неприязнь возбуждали два человека: бывший рабочий Быков, коренастый парень в блузе, в кудрявой голове которого, в толстой шее и выкаченных глазах было и впрямь что-то бычье, и ещё один, по фамилии Мельник: весь какой-то дохлый, чахлый, песочно-рыжий, золотушный, подслепый и гнусавый, но необыкновенно резкий и самонадеянный в суждениях, — много лет спустя оказавшийся, к моему удивлению, большим лицом у большевиков, каким-то «хлебным диктатором»…
В среде подобных людей я и провёл мою первую харьковскую зиму (да и многие годы впоследствии).
Известно, что это была за среда, как слагалась, жила и веровала она.
Замечательней всего было то, что члены её, пройдя ещё на школьной скамье всё то особое, что полагалось им для начала, то есть какой-нибудь кружок, затем участие во всяких студенческих «движениях» и в той или иной «работе», затем высылку, тюрьму или ссылку и так или иначе продолжая эту «работу», и потом жили, в общем, очень обособленно от прочих всяких русских практических деятелей, купцов, земледельцев, врачей и педагогов (чуждых политике), чиновников, духовных, военных и особенно полицейских и жандармов, малейшее общение с которыми считалось не только позорным, но даже преступным, и имели всё своё, особое и непоколебимое: свои дела, свои интересы, свои события, своих знаменитостей, свою нравственность, свои любовные, семейные и дружеские обычаи и своё собственное отношение к России: отрицание её прошлого и настоящего и мечту о её будущем, веру в это будущее, за которое и нужно было «бороться». В этой среде были, конечно, люди весьма разные не только по степени революционности, «любви» к народу и ненависти к его «врагам», но и по всему внешнему и внутреннему облику. Однако, в общем, все были достаточно узки, прямолинейны, нетерпимы, исповедывали нечто достаточно несложное: люди — это только мы да всякие «униженные и оскорблённые»; всё злое — направо, всё доброе — налево; всё светлое — в народе, в его «устоях и чаяниях»; все беды — в образе правления и дурных правителях (которые почитались даже за какое-то особое племя); всё спасение — в перевороте, в конституции или республике…
И вот к этой-то среде и присоединился я в Харькове. Уж как не подобала она мне! Но к какой другой мог присоединиться я? Никакой связи с другими кругами у меня не было, да я и не искал её: над желанием проникнуть в них преобладало чувство и сознание, что если и есть многое, что совсем не по мне в моём новом кругу, то очень и очень многое будет в других кругах не по мне ещё более, ибо что общего было у меня, например, с купцами, с чиновниками? Да многое в этом кругу было просто приятно мне. Знакомства мои в нём быстро расширялись, и мне нравилась лёгкость, с которой можно было делать это в нём. Нравилась студенческая скромность его существования, простота обычаев, обращение друг с другом. Кроме того, и жилось в этом кругу довольно весело. Утром — сборище на службе, где немало чаепития, куренья и споров; затем оживлённая трапеза, так как обедали почти все компаниями, по кухмистерским; вечером — новое сборище: на каком-нибудь заседании, на какой-нибудь вечеринке или на дому у кого-нибудь… Мы в ту зиму чаще всего бывали у Ганского, человека довольно состоятельного, затем у Шкляревич, богатой и красивой вдовы, где нередко бывали знаменитые малорусские актёры, певшие песни о «вильном казацъстви» и даже свою марсельезу: «До зброи, громада!»
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу