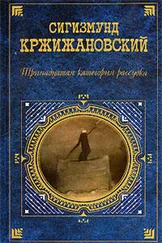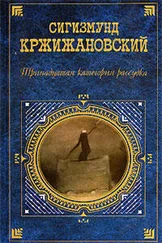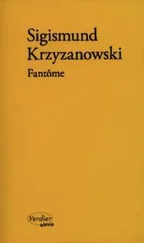Сигизмунд Кржижановский - салыр-гюль
Здесь есть возможность читать онлайн «Сигизмунд Кржижановский - салыр-гюль» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию без сокращений). В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: Русская классическая проза, на русском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:салыр-гюль
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:3 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 60
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
салыр-гюль: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «салыр-гюль»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
салыр-гюль — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «салыр-гюль», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
– Это роза Салыра, – говорит он по-русски лишь с еле заметными гортанными и носовыми призвуками, – самый древний из ковровых рисунков. Сейчас уж его не ткут. А в садах такие и не цвели никогда. Выдуманный цветок, ха: салыр-гюль.
Я перевожу взгляд на человека, познакомившего меня с вписанным в ковёр, как в страницу пестрот, цветком: глаза под стеклом очков, чуть удивлённые вздужья седеющих бровей, высокий, прячущийся под тюбетейку лоб; на губах, отговоривших слова, из-под стриженых усов выражение радушия и сугубой вежливости. «Наверно, он даже в мыслях, и даже с самим собой всегда на вы», – мелькает у меня.
– Рехмет.
Мы обмениваемся кивками. Меня уже нет в чайхане. «Салыр-гюль: надо заблокнотить. Может пригодиться».
III
Обычно очеркисты, странствующие по касательной к Востоку, путают термины: паранджа и чучван. Благая проповедь о снятии паранджи подходит к женщине и не с той стороны. Если даже женщина Востока и скинет паранджу, то лицо её всё-таки останется под чучваном. Паранджа – укрывает лишь затылок, шею и спину; её длинные рукава, спускающиеся до самых пят и связанные у кистей шнуром, столь уродливо вытянуйты, что для пропорционально им выкроенного тела понадобился бы рост вровень с кровлями одноэтажного дома.
Чучваны, к сожалению, ещё не вывелись окончательно из быта старых узбекских городов. Наряду с яркими лицами узбечек, лицами, точно вылупившимися из чёрной скорлупы чучвана, нет-нет вдвигается в яркий день тёмная заплата, заштопывающая наглухо лицо. Делается она из конского волоса, сплетаемого в очень частую сетку.
Чучван, разумеется, не жилец на новом Востоке. Пропаганда срывает его, как срывают старую афишу со старой отыгранной датой. Но не только пропаганда. Чучван отлипает от лица, сам отшелушивается от него, как старая кожа, уступающая место новой. Он слишком долго прятал – теперь настало время прятаться самому.
Но исцеление от этой наднакожной болезни, от чучванности идёт постепенно, по определённым градациям.
Вот они: глухой чёрный покров, плотно закрывающий всё лицо; белый скупой узор по прямому краю, опускающемуся на грудь; такая же чёрная завесь, но с прорединками для губ и глаз; чучван, приоткрытый снизу, чтобы дать волю дыханию; сеть чучвана отодвинута к плечу, но при встрече с глазами мужчин лицо поспешно прячется под набегающую ткань; чучван отброшен через голову назад – он треплется, как ненужный мёртвый придаток, всё ещё тянущийся вслед за открытым лицом; чучвана нет, – он снят, но при встрече с мужчинами лицо отдёргивается в сторону и ресницы – крохотными чучванами – прячут глаза; даже и ресницы не дают рефлекса при встрече с мужским взглядом, только на лице чуть-чуть… чучванное выражение.
Особенно мне памятен один чучван, встреченный на самаркандском базаре. Это был порядком истёртый, порыжелый от солнца старый чучван; жирный и высмальцованный в своей надгубной части, он привлекал к себе базарных мух: облепив его сетку, напомнившую мне те проволочные колпачки, под которыми раньше прятали всякую снедь, мушья стая взволнованно зудела и совала свои хоботки внутрь, пробуя проникнуть в тайну чучвана.
Кстати. Хору наших очеркистов, столь красноречиво и многословно пишущих о вопросе ясном без слов, убеждающих в том, что не требует уже убеждений, надо бы вспомнить о своих музах. Восточная женщина сбросит своё покрывало, она его уже сбрасывает. Но почему иные – вовсе не восточные – музы до сих пор прячут своё подлинное лицо под чернильного цвета чучваном. Распропагандируйте своих муз, поэты. Не чучваном к правде, а лицом к ней.
Узбекский глагол «иок кылмак» (joq qьlmaq) переводят обычно: истреблять. Дословно пришлось бы так: делать из есть нет.
Этим и занимались Александры Македонские, Чингисханы, Тимуры и Надир-беги-ханы. Истребление, делание из есть нет, было их ремеслом. Горе городам, к которым близились «царь и его пыль» (так одна старинная хроника называет войско, предводимое завоевателем). И недаром разрушенная стена Афросиаба – предка Самарканда – носила имя «стены последнего суда» (дивари-и-Кыямат). Надо отдать справедливость воителям, чьи войска маршировали из Согдианы в Бактриану и обратно: своё ремесло истребления они совершали с величайшей тщательностью. Города сжигались дотла, стены истирались в пыль, жители убивались поголовно – до детей, рождённых и вчревных, включительно. Впрочем… И тут дань справедливости была бы недоданной, если не упомянуть о следующем обстоятельстве: ремесленники меча уважали соремесленников. А именно: профессионалов шила и дратвы, молота и клещей, иглы и ножниц. Как многократно рассказывают нам историки, завоеватели древности, истребляли всех и всё, – всегда щадили кузнецов, слесарей, каменщиков, кожевников, башмачников, портных. Они нужны были им, как воинствующим муравьям запрятанные под примуравейниковую кору тли. Калыч против калыча, меч против меча, был неверной и недолгой защитой, но шило успешно парировало меч, сохраняло жизнь – правда, ценою рабства. И, конечно, роды ремесленников, передававших своё искусство от отца к сыну и от сына к внуку и правнуку, – самое древнее в этом много раз кряду омытом начисто кровью краю. Генеалогическое древо иного плотника, наверное, высоковершиннее и корнистее, чем иного сайда или бека. Но плотники имеют дело со всеми видами древ, кроме генеалогического. Так, раздумывая, я вышел – в одно из утр – на площадь перед Тилля-кари. По одну сторону выводящей арки приютился «моментальный» фотограф, снимающий на арабесочном фоне мадрассы, по другую – расставивший на ковре свои калямы и свёртки бумаги наёмный скриба, строчильщик просьб и кляуз.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «салыр-гюль»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «салыр-гюль» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «салыр-гюль» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.