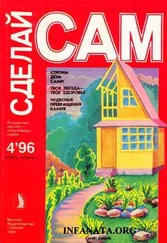Выспавшись, младшие братья брались за огород и поджидали прихода братьев с уловом и грибами.
По воскресеньям отец строился. Белели свежими срубами соседские дома, качались в гамаках вездесущие дачники, и в пятнистых сарайках хрюкали поросята. Попробуй отличи свой материал от чужого, если возили с одного места... Отец посвистывал и заигрывал с матерью, хлопотавшей у дымившего очага: "Шура, ягодка моя, балкон будем делать?" Он брал каску с гвоздями и шел приколачивать доску, которую Броня с Феликсом уже прилаживали к стене.
-- Обязательно, -- подыгрывала ему мать и громко добавляла: -- Мне посоветовали в Москву написать, товарищу Сталину. Тогда быстро найдут, кто из нашего леса дом построил.
-- Ну ладно, ладно, -- понижал голос отец. -- Не пойман -- не вор. Успокойся. Смотри, какая погода чудная.
-- Успокойся...-- помешивала крапивные щи мать. -- Если бы даром досталось, а то ведь ссуду брали. А кое-кто за наши деньги особняки отгрохал и дачников пустил. Нет, я напишу!..
...Отец погасил ссуду к пятьдесят шестому году. Десять лет семья возвращала деньги за материал, украденный зимой сорок шестого года. Но выплатили честь по чести -- есть справка...
Когда при заполнении анкеты в военкомате я сказал, что мой отец родился в Санкт-Петербурге, пахнущий одеколоном лейтенант посоветовал мне не выпендриваться и не разводить здесь белогвардейщину.
Я сказал, что из прошлого, как и из песни, слов не выкинешь: отец появился на свет не в Ленинграде, не в Петрограде, а в Санкт-Петербурге. Именно так в 1904 году назывался наш город.
-- В военном деле нужна точность, -- добавил я.
Лейтенант окинул меня долгим надменным взглядом и записал: "Ленинград (Санкт-Петербург)".
-- Живой еще? -- макнул он перо в чернильницу.
-- Кто?
-- Родитель. Четвертого года рождения все же...
-- Отец жив, -- покраснел я. Сзади, у стендов гражданской обороны, хихикали раздетые до трусов одноклассники, и я стеснялся пенсионного возраста своего отца.
-- Ну вы даете! -- смачно сказал лейтенант. -- У меня батя двадцатого года рождения. Детей надо делать в молодости...
Я промолчал.
-- Мать?
-- Умерла, -- негромко сказал я. -- Два года назад, в шестьдесят четвертом.
Лейтенант неодобрительно покрутил головой. Потом он долго скрипел пером, внося в карточку годы рождения и места работы двух братьев и двух сестер, и нетерпеливо поглядывал на меня.
-- Все? -- поставив точку, с тревогой спросил он. -- Больше никого нет?
-- Никого.
-- Ну вы даете!..
Санкт-Петербург так и остался в моей воинской анкете. Из песни слов не выкинешь.
Отец помнил Октябрьскую революцию так же, как я помню полет Гагарина. Хорошо помнил. Ему только что исполнилось тринадцать лет.
Когда полетел Гагарин, мне было двенадцать. Я видел по телевизору, как он спускается по трапу самолета и идет по ковровой дорожке.
Отец родился за несколько недель до Кровавого воскресенья. Я -- в середине века. Между нашими днями рождения легли две мировых войны и три революции.
Когда акушерка на Обводном канале хлопнула меня по синей попке и я, впервые хлебнув воздуха, закричал тоненьким голоском "у-а! у-а!", отцу было уже сорок пять. Я был его седьмым ребенком и восьмым у матери.
До меня так же пищали, глотнув ленинградского воздуха, пять моих братьев и две сестры. Они пищали в разные периоды нашего государства: "после революции", "до войны" и "во время войны". Я пискнул "после войны". По нашей семье можно изучать историю; у нас длинная семья.
Мы строим дом.
Мы приезжаем в субботу утром, затапливаем печку и быстро натягиваем дачные обноски. Феликс, в рваном сомбреро и ватнике, выводит нас на улицу и для порядка пересчитывает. Краснеют клены вдоль покосившегося забора, вянет трава, прибитая ночными заморозками, и мелкий дождик моросит по крыше.
Предполагается, что новый дом встанет на месте старого. Но старый решено пока не трогать, а лишь охватить фундаментной траншеей по периметру, а когда вырастут стены нового, -- разобрать. Так вернее.
Пока мы сломали только верандочку, в которую уперлась траншея. Веранда долго раскачивалась, скрипела и наконец рухнула, выдохнув в морозный воздух облако пыли. "Ну все, -- сказал Феликс, -- назад пути нет". И, присев в сторонке, долго курил, прищурив глаза.
Мы разбираем доски и отрываем от порушенных стен листы толстого картона. На обратной стороне листов -- круто бегущие графики 1953 года; отрывая, я рассматриваю их.
Удилов с остервенением лупит обухом топора по доске. "Ах ты, зараза! -тяжело дышит он. -- Такое старье, а сопротивляется. Гнилуха..."
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу