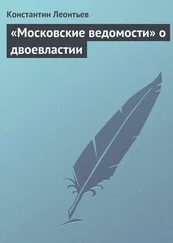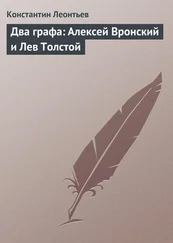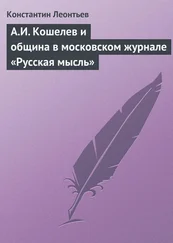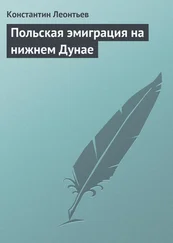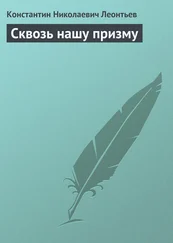Брожу я теперь, как тень. Скука, жар, безделье, лень. Розенцвейг тоже задумчив. Почти не говорит. Не знаю, чем все это кончится. Хоть бы ты чаще отвечал мне. Право, нестерпимая тоска! Южный ветер глаза жжет; вчера были три такие сильные подземные удара, что стена наша треснула. Когда бы землетрясение! Все лучше тоски.
23-го июля.
Мне было так скучно, так тяжело, с тех пор как Ревекку увезли родные в город и заперли на три ключа, что не было охоты писать даже к тебе. Но вчера случилось в нашем тесном кругу такое важное событие, что я не могу не сообщить его тебе. Розенцвейг посватался за мою сестру.
Вот как это было. Нас с ним пригласили франки на пикник в Серсепилью, в очаровательный сад Шекир-бея. Нам показалось неловко отказаться. Да и консул гнал нас туда и сердился, что мы неохотно отправляемся. Музыка была хороша, фонтаны журчали, птички кротко пели, цветники роскошно пестрели, краше восточных ковров. Я сначала танцовал, потом удалился в беседку с Розенцвейгом.
Мы сели.
— Не ехать ли домой? — спросил я.
— Нет, — ответил он, — неловко. Обидятся. А меня и без того уж они ненавидят...
Потом я сказал:
— Если бы в этом саду да с любимой женщиной прожить хоть месяц.
Розенцвейг на это сначала ничего не отвечал, потом сказал:
— Я и в таком маленьком саду, как ваш, готов свековать с любимою женщиной... Возьмем, например, хоть вашу сестру. Насколько она в своей простоте лучше этих европейских сорок, с которыми вы сейчас так глупо носились в вихре вальса!..
— Что же, — я говорю, — особенного в моей сестре? Добрая, простая, правда, хорошенькая девочка, читать, писать кой-как умеет, песенки поет... вот и все!
Розенцвейг вспыхнул.
— Да когда ж люди поймут, что не все то изящно, что принято нами?.. От вашей сестры дышит весной... Она сама песня! Читать! Писать! Стыдитесь! Когда я вижу, как она проходит мимо наших окон с корзинкой за диким салатом и, нагибаясь, напевает песни, — я без ума от нее... Знаете, мне даже нравится, что коса ее светлее передних волос, потому что она носит ее всегда на солнце поверх повязки... Все мне в ней нравится. Когда она склонит немного головку набок и так томно скажет: малиста (да, конечно), — это одно малиста может свести человека с ума! А вы разве не наблюдали, как она смотрит в небо, когда подает гостям варенье на подносе? Да где вам?
На то вы брат, чтобы ничего не видеть! Недаром вы и с нигилистом русским в переписке... Я отвечал ему на это, шутя:
— Женитесь, если она такая прелесть...
— Вы не шутите?
Что мне было делать? Я действительно пошутил, я никогда не думал, чтобы он решился на этот шаг.
Я сказал: «Как хотите: хотите, пусть будет шутка; а не хотите, пусть будет не шутка...» Розенцвейг взял меня за руку и сказал:
— Ну, спасибо! Так завтра передайте это и родным. Ушел из беседки и вскоре вовсе скрылся.
Я, право, не знаю, радоваться или нет? Завтра поговорю прежде с Хризо: что она скажет? Мне кажется, она должна счесть это за неслыханное счастье.
24-го июля.
Мне не удалось сразу передать сестре предложение Розенцвейга. Сегодня воскресенье, и она прямо от обедни ушла в гарем к Рустему-эффенди. Долго я ждал ее, от нетерпения ушел из дома и вернулся только к полудню. Хризо вернулась, и я застал ее перед зеркалом; она подходила и отходила от зеркала, поправляя новые золотые серьги с маленькими яхонтами. Я спросил:
— Что ты делаешь?
— Видишь, серьги новые смотрю; думаю, как бы сделать, чтобы лучше светились.
— Кто ж тебе их дал?
— Старшая сестра Хафуза: Рустем-эффенди тебе кланяется много.
— А что ж вы еще там в гареме делали?
— Сидели.
— Только сидели?
— Говорили. Зейнет, старшая сестра, говорит мне: когда бы ты, Хризо, мастику с водой мешала и лицо бы
этим каждое утро вытирала, ты бы еще лучше была; посмотри, как у тебя лоб будет блестеть!
— Нет, этого ты, Хризо, не делай, — заметил я. — Жених твой тебе хороших духов из Константинополя выпишет. Ты уж ими вытирайся, а не мастикой...
Сестра вся вспыхнула и растерялась:
— Кто, — говорит, — мой жених? У меня нет жениха.
— Как, — говорю я. — нет? А русский секретарь?.. Ты разве не знаешь, что ты ему сердце сожгла любовью?
— Ба! — сказала сестра, — он уж не молод.
— Как не молод? Ему всего тридцать лет.
— Я думала больше. Такой слабый, худой! Ба! что за разговор!
— Да нет, — я говорю, — это не шутя... Ей-Богу, он просил меня сосватать его тебе. Чего ж ты хочешь? Человек молодой, православный, русский; будешь консуль-шей, большою дамой. Все жены франков притащатся к тебе с визитами...
Читать дальше