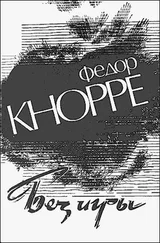Она прошла к себе и тихонько притворила дверь, чтоб никого не видеть.
- Виталик, да ты никак гримироваться собираешься?
- Ну и что?
- А отменят?
- Ну и пусть. Ты погляди в окошко. Вон, видишь, идет?
- Ну, на пуделя похож.
- Он сейчас к кассе подходил, билет взял, я видел.
- Ай да пудель!.. Ну, бенефицык!.. Жаль Верочку.
- А что такое Верочка?
- Оставь, пожалуйста. Мне жаль. Мила.
- Мила. Но ведь не Савина.
- Не Савина. А все равно жаль...
Она еле слушала привычную актерскую болтовню, потом глубоко задумалась и совсем перестала слышать.
Очень долго она сидела, выпрямившись, давным-давно одетая и затянутая в костюме первого действия, загримированная, одна в своей дощатой клетушке. И оттого, что она давно уже, не отрывая глаз, смотрела прямо перед собой в зеркало, точно во время крещенского гадания, начинало казаться, что в темной глубине отражения мерцает и открывается какой-то неясный простор, точно взглядом проникаешь куда-то далеко за стенку, за дачный лес, за петербургские улицы и площади, в бескрайние поля, которых она никогда не видела, а только сердцем чувствовала всю их необъятность, когда поезд долгими днями и ночами бежит, а кругом все те же поля, перелески и степь, такая же сегодня, как была тысячу и три тысячи лет назад...
Россия с ее тысячелетней судьбой, ее великий народ. И она сама, такая слабая, недолговечная, пугливая и неуверенная, она могла мечтать чем-то послужить, отдать свое сердце, голос и талант, которого, может быть, и нет вовсе, отдать этому необъятному народу и заслужить минуты его любви. И вот вместо этого она ждет дачников, которые не желают покупать билеты на ее спектакль!
Бедная ты, ничтожная инженю! Мечтала о судьбе художника, который отдает свою жизнь, чтоб спасти свое творение, ее всегда преследовала эта мечта: отдать жизнь за лучшее свое творение; мечтала о зажженных факелах, о красоте и взлете, а ждет тебя то же, что тысячу других. Они ведь так же мечтают, говорят и надеются, играют нежных Клотильд, и пламенных Агнесс, и очаровательных гимназисток, а после рады до смерти, когда удается рассмешить публику, прихлебывая погромче чай из блюдечка в роли старой приживалки. И вот так же точно ты будешь через двадцать лет сидеть перед зеркалом, глядя на свое состарившееся лицо, ожидая выхода в роли Сидоровны, и выйдешь, и все увидят толстую, старую приживалку, и будут смеяться и хлопать, когда ты сиплым голосом будешь вспоминать, как ты была молода и хороша. И никому в голову не придет, что ты и вправду была молода, и голос твой волновал и пел так, что люди влюблялись в его звук, что когда-то в театр ты бросилась, как на подвиг, и что-то в тебе рвалось, горело, перегорело и безвозвратно угасло прежде, чем ты завязала чепчик двумя смешными ушками на затылке и села, хлюпая губами, хлебать с блюдечка чай.
А за тонкой перегородкой актеры, сидя на подоконнике, курили, зевали, лениво перебрасываясь словами от скуки.
- Виталик! Опять пудришься? Ты после каждой рюмки?
- Ну и что?
- К выходу будешь весь белый. Как Пьеро. Или как мельник.
Донесся смех, перешедший в зевок, потом в тяжелый вздох:
- Господи! Поезд подходит. Махнуть бы хоть в город. В Петербург бы. К тетеньке бы! В уют!
- А тетенька у тебя есть?
- Тетеньки нету. А уюта хочется все равно. Вот сигану сейчас из окошка. И в город.
- Сиганешь, и в Сестрорецк. Поезд-то из города пришел.
- Смотри, двое к кассе пошли. Кажись, за билетами. До чего отчаянный этот русский народ! Кто мою пудреницу убрал?
- Погоди, успеешь еще. Сейчас отменят, вот тогда пудрись.
К двери подошел администратор и, тихонько стукнув, сухо спросил, как она решает. Сбора нет ничего. Но все-таки, может, подождать отменять? Она сегодня хозяйка, ей решать.
- Как знаете, - сказала она. - Я согласна.
- Так как же: отменять? Подождать?
- Да, да, да, - отчаянно проговорила она, морщась и зажмуриваясь, как от боли. - Я согласна, хорошо, отменяйте, ждите, делайте, что хотите.
- Ладно, ладно, - сказал администратор. - Ах, ах, нервы! Нервы, нервы!.. - и насмешливо-нервически передернул плечами.
Больше она сидеть, глядя в зеркало, уже не могла. Стискивая пальцами виски, вскочила, пригнув голову, прижалась плечом к перегородке и, тихонько раскачиваясь, неслышно застонала про себя со сжатыми зубами. Скорее бы только все кончилось, прошел бы этот вечер, кончилось это унижение. Теперь ей уже было все равно. Она презирала самое себя.
Пора кончать все это, скорей разгримироваться, переодеться в свое серое платье и уйти. Уйти и молчать, не проговориться никому, чтобы не высмеяли еще раз твоих наивных порывов, непомерных несбывшихся надежд. Ничего не сбудется в твоей жизни. Эх, ты! Как сотни других, высмеянных в рассказиках и фельетонах - любительниц, дилетанток, - ты обманулась мишурным "успехом". Что тебе вскружило голову? Ты декламировала на концертах твои любимые, звонкие, такие неопределенно зовущие стихи:
Читать дальше