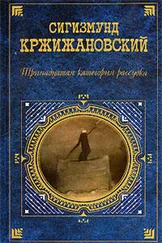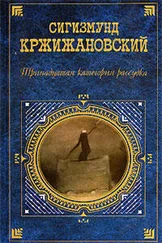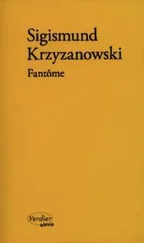И сразу же на мозг рухнуло - всею тяжестью - сознание вины. Ведь, в сущности, что я сделал: толкнул беспомощного и больного человека на смерть. И за что? За то, что он дарил мне мысли, не требуя ничего взамен, мысли, которые, во всяком случае, лучше моих. Не я один, говорите вы, да-да, может быть, и так. Все вместе одного. И теперь, вам покажется это странным, теперь, когда нельзя уже встретить щедрого даятеля философских систем, афоризмов, формул, фантазмов, раздатчика идей, замотанного в нищенский шарф, всей литературе нашей конец,- так вот мне чувствуется - конец. Впрочем, меня вся эта "перьев мышья беготня" уже и не касается. И единственное, что прошу у вас, у литератора, избранного мною: вместе с рукописью принять и тему. Вы говорите - чужая? Ну, так что ж! Этому-то я успел научиться у Влоба: отдавать, не требуя взамен. В память о нем вы должны это сделать. Ваши слова достаточно емки и сплочены, чтобы поднять груз и не замолчать под ним. Ну вот, остается пожелать теме счастливого пути.
В дальнейшем чтение настоящей рукописи представляет некоторую опасность. Обязанность пишущего - предупредить: при малейшей неосторожности в обращении с текстом возможно перепутать несколько "я". Отчасти это объясняется тем, что я - последняя буква алфавита, так что дальше идти, собственно, некуда; отчасти же - некоторым недосмотром со стороны автора, который, . разрешив своему персонажу вести рассказ от первого лица, одолжив ему, так сказать, свое личное местоимение "я", не знает теперь, как его получить обратно, чтобы закончить от своего имени.
В действующем праве принято, что владение вещью,- разумеется, добросовестное, bona fide,- по истечении известного срока превращает вещь в собственность владетеля. Однако в литературе не удалось еще установить, на которой странице "я", попавшее от автора к персонажу, переходит в неотъемлемую собственность последнего. Единственный человек, который мог бы ответить на этот вопрос, Савл Влоб, не может уже отвечать.
Итак, поскольку право человека, овладевшего рукописью и темой, на местоимение первого лица спорно, придется в этих последних абзацах, несмотря на всю стилистическую невыгоду позиции, довольствоваться словом "он".
Чужая тема, вселившись в круг "своих" тем, нескоро добилась площади на бумажном листе. Занятому человеку, в портфеле которого очутились формулы Влоба, надо было сначала закончить свою повесть, разделаться с двумя-тремя договорами. Теме пришлось стать в очередь, в самый конец хвоста. И когда, наконец, пододвинулось ее время, она почувствовала себя как-то совсем отбившейся от пера и не захотела даться чужому человеку. Человек этот, достаточно опытный в обращении с сюжетами, знал, что насильничать в таких случаях бесполезно и что попытка с недостаточными стимулами приведет лишь к окончательному отчуждению от чужого. Он отложил перо и стал дожидаться стимулов.
Прошел ряд недель. Однажды, двигаясь вместе с толпой по одному из наиболее людных тротуаров Москвы, он заметил впереди себя знакомый контур. Это был тот, вручивший ему бесполезные листки. Нельзя было упускать благоприятный случай: возвратить тему по принадлежности. Тот, кто называет себя здесь он, сделал уже движение - догнать и окликнуть, но в это время что-то в самом очертании, наклоне и шаге впереди идущего контура заставило писателя повременить. Сутулый контур двигался как-то странно, напоминая труп, несомый течением реки; ритмически раскачиваясь под толчками надвигающихся сзади и с боков людей, он скользил подошвами по. тротуару, наклоняя то вправо, то влево застывшие плечи; он не смотрел вперед и не оглядывался, когда его поворачивало круговоротом перекрестка, и на оплывшем лице его, на секунду подставленном под взгляд наблюдателя, было выражение выключенности и бессловия.
"Неужели Варфоломеевская ночь симпов действительно началась?" мелькнуло сквозь сознание наблюдателя. И, вслед этой мысли другая: "Стимул найден; попытаюсь еще раз".
И тема не возвратилась: в "свой" мозг.
Однако человек, называющий себя он, все же переоценил силу толчка. Вдовствующая тема медлила расстаться со своим трауром. Неизвестно, сколько бы времени это продолжалось, если б не помощь Es-dur'ной сонаты Бетховена. Встреча е нею произошла, как и многое в этой истории, волею случая. Тот, кого мы здесь называем он, посетил концерт заезжего пианиста, имя которого всегда собирает толпы, и был захвачен, врасплох словом "Les adieux"43, глянувшим на него из раскрытой программки. Как немузыкант, он, конечно, забыл тональность и номер сонаты, приведшей Влоба к теории разлук.
Читать дальше