— Смотри-ка, — сказал Иван Иванович, — и бабы тут. Тоже работают.
— А отчего же им не работать. Всяк должен свою лепту.
— Выдрать бы их за эту лепту, вот что.
— Ну, и гадюка же ты! — удивился рабочий. — Тебе-то они чем помешали? А еще скажешь, позову ребят, они тебя научат, в лучшем виде все поймешь.
— Граждане, а деретесь, — упавшим голосом возразил околоточный.
— Мы-то граждане, а ты-то сволочь. Вас да не бить, кого же тогда бить?
И опять стало скучно и беспокойно. Невдалеке стоял Петров и искоса наблюдал, и все кругом было враждебное, злое, обидное в своей веселости. Еще вчера он был лучше их всех и каждому мог дать по морде, а сегодня они считают себя лучше, а сами грязные, оборванные, подлецы. Шагах в пятидесяти у лавки стоял лавочник, толстый, седой, и, заметив его, Иван Иванович осклабился и закивал ему головой: первый, наконец, хороший человек. Околоточный часто забегал к нему в магазин поговорить по телефону, знал его и понимал, что и ему теперь противно смотреть на это безобразие. И действительно, лавочник строго и внимательно глядел на выраставшую баррикаду, потом неодобрительно закачал головой и скрылся в дверях.
— Ага! — сказал околоточный.
— Ты что?
— Ничего, так. Рано вы в граждане записались.
— Ты опять?
Лавочник вышел. Впереди себя он катил огромную пустую бочку, подкатил ее к баррикаде и поставил. Поглядел издали, подперши щеку рукой, выхватил у соседа топор и разбил бочку, так что острыми ребрами своими она расползлась в стороны как своеобразный букет. И среди других голосов и смеха послышался и его густой и самодовольный смех:
— Попробуй-ка, перескочи!
Пытался Иван Иванович для доклада приставу запомнить работавших, но, кроме седого лавочника да одного дворника, который со двора таскал один какие-то огромные бревна, никого признать не мог. Да и Петров, заметив его внимательные, изучающие взгляды, погрозил ему пальцем, и Иван Иванович скромно опустил глаза. «Привязался», — подумал он, а рабочему насмешливо, но тихо фыркнул:
— Даже и смотреть нельзя, скажите пожалуйста, какие цацы!
— Глаз-то у тебя нехороший, — серьезно заметил старик. — Напрасно они тебя взяли. Самое бы хорошее: повесить тебя на баррикаде заместо красного знамени. И дешево и сердито!
— Что же тут хорошего!
Рабочий, видимо, шутил, но Иван Иванович не мог разобрать, где кончается шутка и начинается серьезное, и сердце у него порывами начинало сильно трепыхаться и начиналась изжога, как будто он много съел дурного, прогоркшего масла. Но проходил час и другой, и никто его не трогал, хотя многие грозились, а один мальчишка снежком залепил ему в голову. Мальчишку обругали, а Иван Иваныч совсем успокоился и за себя и за пальто и уже начал понемногу распоряжаться и повышать голос:
— Куда кладешь?! За тот конец бери! За тот, говорю. О Господи, вот же народ бестолковый!
Теперь он понимал, что такое баррикада.
— Упри его концом сюда, так, — чтобы остряком оно вперед. Так, верно!
И уже развязно подходил к Петрову.
— Господин Петров! Извольте приказать, чтобы ваши товарищи помогли мне снять вывеску. Мы ее посередке поставим.
Петров, не оборачиваясь, коротко ответил:
— Убирайся вон.
— Как же это так? — пожимает околоточный плечами, но на время затихает и сжимается, поглядывая как-то из-под низу, как побитая собака. А потом снова овладевал положением и постепенно повышал голос, сразу, впрочем, переходя на шепот, когда встречался взглядами с Петровым. Необходимо было показать, что он хоть и без пальто, но лучше других, чище и благороднее.
— А вы бы, сударыня, лучше не за свое дело не брались, — сказал он женщине в платке, которая привезла на салазках вязанку дров и сбросила в баррикаду. — Лучше бы вашему мужу щи готовили, а не политикой занимались.
Он сказал тихо, спокойно, а женщина вдруг закричала, так что отовсюду посыпал народ.
— Что?! Это ты мне говоришь? Мне? Мужа моего слопал, а теперь мне говоришь!
И со всего размаха ударила его по щеке. Он схватил ее за платок и сорвал, но тут сразу десяток рук вцепились в него и приковали его к месту. И опять от ужаса онемели ноги.
— Я не виноват! Она… Я не виноват, честное, благородное слово! Я ей сказал…
Женщина плакала, сидя на салазках, и дружинники смотрели угрюмо. Петров глядел долго и внимательно и не выдержал, — плюнул.
— Гуманность! — сказал он презрительно.
— Господин Петров! Господин Петров! — звал его околоточный. — Я ей сказал…
Читать дальше

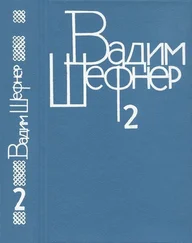

![Дмитрий Холендро - Избранные произведения в двух томах. Том 2 [Повести и рассказы]](/books/213876/dmitrij-holendro-izbrannye-proizvedeniya-v-dvuh-tom-thumb.webp)
![Дмитрий Холендро - Избранные произведения в двух томах. Том 1 [Повести и рассказы]](/books/214506/dmitrij-holendro-izbrannye-proizvedeniya-v-dvuh-tom-thumb.webp)







