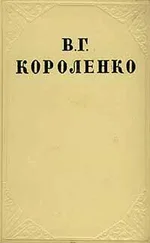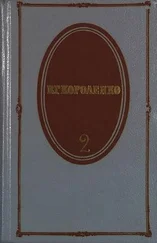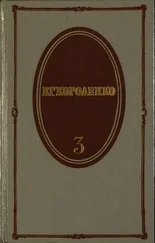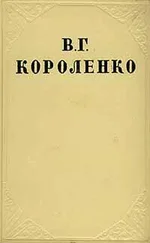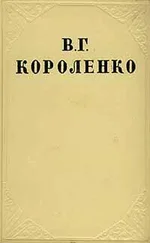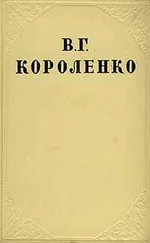К последнему классу гимназии религиозные вопросы для Короленко утратили свою остроту: «Не то чтобы я решил для себя основные проблемы о существовании Бога и бессмертия (…) Мой умственный горизонт заполнялся новыми фактами, понятиями, вопросами реального мира» (V, 309). Тому немало способствовал глубокий интерес к русской литературе, особенно к Тургеневу и Некрасову, привитый талантливым преподавателем гимназии В. В. Авдиевым. Реальная жизнь не удовлетворяла гимназиста Короленко так же, как и попытки найти замену ей в романтическом прошлом отошедшей казацкой жизни, в рыцарских временах Польши, или блуждания «во мгле призрачных, не подлежащих решению вопросов» бессмертия и вечной жизни. Все это заменили произведения русских писателей, где, с одной стороны, есть «„простые“ слова, которые дают настоящую неприкрашенную „правду“», а с другой — «сразу подымают над серенькой жизнью, открывая ее шири и дали (…) озаренные особенным светом» (V, 265, 266).
Окончив гимназию в городе Ровно в 1871 году, одетый в сшитый местным портным костюм «из какой-то очень прочной и жесткой материи с желтыми миниатюрными букетцами по коричневому полю» Короленко приезжает в Петербург и начинает учиться в Технологическом институте. «Розовый туман» вольной студенческой жизни, знакомств с «идеальными студентами», участия в «таинственных сходках», где молодые люди решают судьбы России, быстро рассеивается, и Короленко понимает, что свести концы с концами из-за отсутствия средств ему не удастся, учеба безнадежно запущена, а мнение дяди, что он за год жизни в Петербурге «стал только хуже», — справедливо. В 1873 году он оставляет столичный Петербург и поступает в Москве в Петровскую сельскохозяйственную академию, где с большим интересом слушает лекции К. А. Тимирязева, знакомится с действительно интересными, думающими студентами, увлекается статьями П. Л. Лаврова и Н. К. Михайловского. Глубокое понимание социологии Лаврова и Михайловского придет к Короленко позднее, пока же он усваивает представление о потенциальной мудрости народа, которая «ждет только окончательной формулы, чтобы проявить себя и скри-сталлизовать по своему подобию всю жизнь» (VI, 140). Мечта стать писателем почти полностью забывается, и он ищет путей сближения с народом и воплощения в жизнь народнических идеалов. В этом ему помогло само правительство. К 1876 году относится первое общественное выступление Короленко. Он написал и первый подписался под заявлением студентов академии, где указывалось, что некоторые правила внутреннего распорядка для студентов оскорбляют в них чувство собственного достоинства. Последовало разбирательство, после которого студенты отказались от своих требований. Остались твердыми только двое: Короленко и его друг В. Григорьев. Короленко был исключен из Академии и выслан в Вологодскую губернию, но с пути возвращен и поселен под надзор полиции в Кронштадте. Вернуться в Петровскую академию ему не дозволили, и он поступает в третье учебное заведение — Горный институт в Петербурге. Но в 1879 году по ошибочному подозрению в «сообществе с главными революционными деятелями» Короленко выслан сначала в Глазов, а затем еще дальше — в Березовские Починки.
Первый рассказ Короленко «Эпизоды из жизни „искателя“» был написан в 1879 году, во время второй ссылки, а рассказ «Сон Макара», принесший писателю известность, — в слободе Амга, в якутской ссылке, по-житейски самой трудной, но и самой успешной в творческом смысле, так как именно здесь были им задуманы и частично созданы многие его произведения.
Причина, почему Короленко оказался в якутской ссылке, была далеко не обычна. После убийства Александра II население России должно было принести присягу новому царю, однако от политических ссыльных потребовали, чтобы они принесли присягу каждый в отдельности и в письменной форме. Большинство ссыльных справедливо видело в таком акте пустую выдумку чиновников, гораздых на сочинение новых формальностей, и подписали присягу. Иначе отнесся к этому Короленко. После очень нелегких колебаний, размышлений и сомнений он отказался выполнить это указание и написал заявление, в котором прямо сказал, что совесть не позволяет ему дать обещание верности новому государю. Комментируя свое решение, Короленко писал в «Истории моего современника»: «…оглядываясь на этот эпизод моего прошлого, я должен сказать, что тогда я поступил именно так, как этого требовала моя совесть, то есть моя природа, и спокойствие, наступившее для меня тотчас после принятого решения, доказывало ясно, что в этом отношении я был прав» (VII, 205). Требования личной нравственности и в этом случае оказались выше логики и практических соображений.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
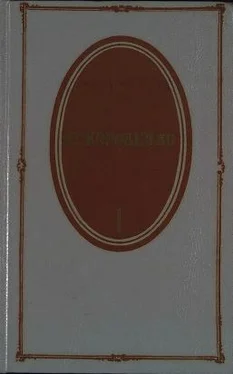
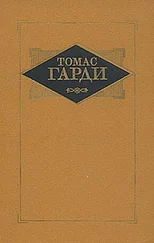
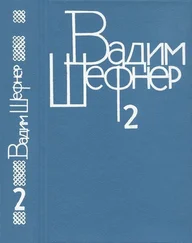

![Дмитрий Холендро - Избранные произведения в двух томах. Том 2 [Повести и рассказы]](/books/213876/dmitrij-holendro-izbrannye-proizvedeniya-v-dvuh-tom-thumb.webp)
![Дмитрий Холендро - Избранные произведения в двух томах. Том 1 [Повести и рассказы]](/books/214506/dmitrij-holendro-izbrannye-proizvedeniya-v-dvuh-tom-thumb.webp)