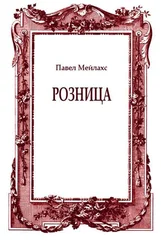Он был свободен.
Свободен.
"А они находят себе занятия. Работают, едят, спят, убивают старух, бросаются под поезд, пишут многотомники, маются дурью. А кто похлипче, посебяединственноголюбее, "приходят к Богу". Потому что не хотят признаться, что не могут ни достойно жить, ни достойно помереть, - так же, как и я".
"Жертва пошлейшей комедии. Быть в пошлейшей роли я не согласен. Тогда самоубийство. Но у меня не хватит духу. А, скажем, травиться - фифти-фифти не хочу людей смешить. То, что произошло со мной, происходило тысячи раз. Пошлейшая роль. Бывшему вундеркинду никак не отвыкнуть от того, что он гений".
"И не расскажешь, главное, никому... Хоть бы ногу оторвало, или из близких помер кто... Тогда понятно. А так... Трагедия, тоже мне... Фраер узнал, что он фраер".
"Если ты не Джим Моррисон, так сдохни хотя бы, как он! И этого ты не можешь".
Он в чужой квартире, в чужой ванной комнате. Там он впервые увидел опасную бритву. Очень острая. Раз-раз - андреевский флаг на морде. Раз, раз, раз, раз, раз! Морда в мелкую сетку. Хорошо. Хорошо, хорошо, еще лучше. Исполосовать себя в мелкую капусту, все у себя, что подвернется. Посмотри на свою поганую рожу! Ты видишь ее в последний раз. Братуха.
Пить он стал теперь реже. Только когда становилось полегче, какие-то просветы все же бывали. Он подержал бритву в руках и положил на место. И подумал, что хорошо, что у него дома такой нет. А то во время какой-нибудь пьянки, раздухарившись, он мог бы что-нибудь сделать с собой с ее помощью. Что-нибудь приятное. Манила как-то она его.
Самоубийство - даже этого для него было мало, пусть даже он его и боялся. Самоубийство - это как-то дешево, коротко. Дешево отделался. Замучить, растерзать себя - вот что влекло его, как далекий, очищающий душу огонь. Идти на этот огонь, истекая кровью, хрипя, ничего не чувствуя от боли, от шока, оглушенным, ослепленным, идти на него, чувствуя, как душу захлестывает и захлестывает небывалый, неземной восторг, чувствуя, как задыхаешься от этого восторга, уже не можешь вынести его, все накатывающего и накатывающего.
"Я болен. Да, я болен. Я очень, очень болен". - он постоянно говорил, твердил это про себя. Иногда даже шевелил губами при этом. Констатировал и констатировал то, что было неоспоримо.
На военной кафедре с ним приключилась истерика. В тот раз он был "дневальным". Майор объяснял ему, что надо сейчас делать, и он вдруг рассмеялся ему в лицо. Майор оторопел от такой наглости, попытался было поставить его на место, но как-то вдруг понял, что тут что-то не так, и, не обращая внимания на неприличный смех, продолжал объяснять. Он с утроенным усердием кивал, чтобы майор понял, что это он, ей-богу, не нарочно, но смех рвался и рвался из него, и он был тут совершенно бессилен. Смеясь, отправился выполнять поручение. Майор некоторое время смотрел ему вслед. Потом покачал головой.
Все шло по-прежнему. Он учился на четвертом курсе, ходил в университет. Родители ничего не замечали. Иногда он, правда, устраивал небольшие, кратковременные скандальчики, с оттенком какой-то новой для него слезливости, из-за любой бытовой ерунды. Но и раньше у него был характер "не из легких". А он потом раскаивался, корил себя. И даже удивлялся: с чего это он вдруг?
У него стали побаливать уши. Если их продувало, болели сильнее. И какая-то гадость завелась в них, какая-то жирноватая субстанция, с резким, противным, каким-то прогорклым запахом. Его почему-то все тянуло ногтями добывать ее из ушей и принюхиваться, ощущать мерзостность. Вошло в привычку. Мог заниматься этим и на людях. Как-то он их стал плохо замечать. Впрочем, спохватывался; уже, правда, успев вкусить мерзостности.
Как ты похудел! - изумлялась приехавшая тетушка. И мать тоже вздыхала. Все из родни замечали, что он похудел.
А его бесили эти напоминания. Потому что это были напоминания, лишние напоминания о том, что с ним происходит.
"Я не гений, вы говорите?!! Хорошо, а если бы изобрели такой прибор: подключить вас к нему, и теперь вы - я. И оставить вас так, хотя бы на сутки. Да от вас бы кучка пепла осталась! Что такое быть мной, вы не знаете! Вы бы хоть день прожили мной!"
"У художника есть этот самый... холст, у музыканта - пианино или чего там, а у моего гения - ни хе-ра. И ничего не поделаешь. И никакого такого прибора нет".
"Забавно: скажем, Бетховен - ведь это же душа Бетховена. А ему нужны годы учения, всякая музыкальная грамота, инструменты. Вся эта тряхомудия. И только тогда мы все постигаем - да, это - Бетховен. А если бы он родился среди чукчей?"
Читать дальше