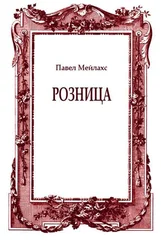И в дорогу далэку
Ты мене на зори провожала…
Яичница на сковородке трещала, стреляла, лопалась, взрывалась. Она вскипела шипением и треском напоследок, при отделении от сковороды, но плюхнулась в тарелку, затрепетала и стихла.
Два яйца в яичнице были двойни. Было четыре маленьких желточка и один большой.
Он бродил по обширной светлой кухне. Белел кухонный шкаф, тумбочка, еще что-то кухонное (пенал?), еще что-то кухонное и еще что-то кухонное. Там, в белом, в кухонном, хранилось много посуды и приспособлений для еды, терки, молки, выжималки. Это все подарили ему любящие поклонницы. Они очень ему сочувствовали, глубоко понимали, каково ему тут одному, и надарили ему все это. Он и не знал, что в этом белом, кухонном. Вот уже двадцать лет все у него лежало на старой полочке (тоже, правда, белой). Перед тем как дожарилась яичница, он бродил по кухне. В белом медленно появлялись его смутные отражения, по которым было невозможно восстановить человека. Появлялись они не сразу, а неохотно, постепенно проступали, даже когда он стоял на одном месте. Отражения были недовольны, что их потревожили. Он двигался, и отражения так же медленно и неохотно пропадали с гладких, белых, блестящих поверхностей, медленно, как исчезает с таких поверхностей надышанное пятно пара. Над раковиной холодно, нержавеюще блестели тоже какие-то кухонные приспособления. Висели стамески, долота, сверла, дрели, плоскогубцы для еды. Хуже: скальпели, катетеры, секаторы… Иногда он хмуро смотрел на них, они в ответ смотрели на него так же. Они были тоже, естественно, подарены и непонятно для чего нужны. В недрах квартиры стояли дареные шкафы с чем-то дареным в них. С чем, понятно, неизвестно.
Это был, как говорили, спятивший подводник. Может быть, врали. Говорили, что однажды он чуть не утонул в своей подводной лодке. Этот подводник часто наведывался в туалет и прислушивался, наклонив голову, как журчит в унитазе вода. Туалет в таких заведениях на всякий случай незакрывающийся. И подводник то и дело торчал там. С наклоненной, очень внимательно прислушивающейся головой. Что-то такое он слышал в журчании воды, лишь ему одному ведомое. Лицо его было совершенно бесстрастно. Какие-то оттенки, оттеночки журчания, которые он изучил, как никто. Но все ему было мало, все еще он что-то недопонял, самое последнее. Все, что есть в мире, — это журчащая вода; в этом — истина, с каких-то пор открывшаяся ему. Но еще оставалось много чего такого в журчащей воде, что было ему пока неведомо; что ж, он постигал, постигал, неуклонно приближаясь к истине. Хорошо, что он пожизненно очутился в этом месте, ничто постороннее не отвлекало…
Он с трудом глотал сытную яичницу. Водил круговыми движениями хлебной коркой по дну тарелки, вымакивая растекшийся, застывающий желток. Жуя последний пропитанный хлебный комок, увидел в окно, что солнце ненадолго вышло. Крыша дома напротив озарилась. Ему захотелось согреть, подрумянить замерзшие руки над этой крышей.
В квартире холодно. Термометр застыл на +13.
Как неохота идти в контору.
Я кажусь себе циркачом, разрывающим цепи. И с каждым днем, с каждым разом кажется, что не разорвать. Но нет, разорвал пока. Живи до следующего раза. А вот сейчас точно не разорву. Но нет. Разорвал. Живи пока. Живу я пока. А дальше? Цепь все та же, но я слабее. Вот так когда-нибудь и не разорву.
Висишь над пропастью и чувствуешь, что силы кончаются в руках, когда-то они кончатся, а спрыгнуть нельзя, а залезть невозможно.
Он смотрел на окна противоположного дома. На подоконниках там стояли больничные цветы в горшках. Иногда там появлялись женщины в белых халатах. Медсестры, уборщицы. Он представил, как там сейчас скрипит по линолеуму тряпка на швабре. Дребезжит и скребет с визгом по полу случайно задетое ведро с грязной водой, в ведре заходили ходуном волны, одна не удержалась в его границах и хлынула через борт на пол. Размашистая водяная клякса на полу. Да-а-а чтоб тебя! Он прекрасно знал, что происходит сейчас в доме напротив, ему не нужно было заглядывать внутрь. Он знал, что за столиком в только что вымытом, блестящем и даже немножко отражающем своим линолеумным полом коридоре трое играют в дурака. Он может пойти туда, сказаться больным и подсесть играть в дурака четвертым. Можно будет пара на пару. А кто будет его партнером? Олег Иванович с седыми боцманскими усами, с белыми куриными волосами на груди? Или тот худой, больной парень, которого зовут не то Витек, не то Санек (именно имени этого второго он точно не знал, а так он знал о них все)? Витек (Санек) излежался по больницам, в разных городах, в разных странах, имеет богатейший опыт.
Читать дальше