Просидев полчаса, я взяла себя в руки и пошла домой. Я шла, заранее готовясь к новой маминой нотации и упрекам, но мне было все глубоко безразлично.
Мама действительно была уже дома и начала сейчас же что-то говорить мне. Не слушая, я швырнула куда-то мою шляпу, бросилась на кровать, и в эту же минуту в передней послышались тревожные звонки - один, другой, третий, четвертый... Я как сумасшедшая побежала в переднюю, но дверь уже открыл Алексеев, и все жильцы выскочили из своих комнат. На пороге стоял мужчина. Я сразу узнала его. Это был жилец из квартиры Владимира.
- Здесь живет Екатерина Александровна Мещерская? - задыхаясь, тяжело переводя дух, спрашивал он, вопросительно оглядывая всех. - Вот, Владимир Николаевич Юдин только что застрелился, просил ей передать письмо и немедленно прийти, он велел идти прямо за вами, а потом на Знаменку, за его матерью...
После этих слов все потемнело в моих глазах, ледяной холод пополз по ногам вверх, подступая к сердцу, и я потеряла сознание...
Я пришла в себя на своей постели. В комнате стоял едкий запах эфира, на левой моей руке желтело пятно от йода, по которому я поняла, что мне делали инъекцию камфары. Я поднялась и быстро села, мама тотчас подбежала ко мне. В комнате были еще старушка Грязнова и Валюшка, они тоже подошли к моей постели.
- Что с ним? Он еще жив? Я иду к нему, - сказала я решительно.
- Ты никуда не пойдешь! Никуда! - так же решительно ответила мама, властно откинув меня рукой обратно на подушки. - Его увезли в Пироговскую клинику, может быть, спасут, будут вынимать пулю. Тебе идти некуда!.. Ляг. Доктор запретил тебе вставать. Неужели из-за какого-то сумасшедшего ты допустишь, чтобы тебя перекосил какой-нибудь нервный паралич? Если так, то тебе лучше было выходить за него замуж!..
Я легла. При каждом движении боль в сердце усиливалась и тошнота подступала к горлу. Через час из Пироговской больницы приехала сестра с запиской от Елизаветы Дмитриевны. Она писала о том, что только что была срочная операция и пулю вынули, но ее сын безнадежен. Он в полном сознании, просит меня прийти к нему проститься. Она присоединяется к его просьбе.
Моя мать объявила о том, что не пустит меня. Я сказала ей, что повешусь. Тогда она испугалась и согласилась.
Подъезжая к больнице, я увидела около ее подъезда много народа. Это были его поклонницы, среди них я сразу узнала стройную фигуру Веры Головиной.
Мамины глаза холодно и строго остановились на мне.
- Ты поняла, что он умер? - сказала она. - Там теперь лежит не живой человек, а труп. Его мать в слезах отчаяния - около него, ее сына, убитого как ей, безусловно, кажется - нами. Как ты войдешь туда? Как? Зачем? На ее суд? Наконец, ты видишь толпу этих истеричек? Тебя еще, чего доброго, какая-нибудь из них обольет кислотой из мести... Да и вообще это будет неприличная сцена! Ты должна пощадить меня, твою мать!..
Она велела нашему извозчику повернуть и везти нас обратно на Поварскую. Еще долго она говорила что-то о покойном князе, который от ужаса и стыда за меня, свою дочь, переворачивается в своем гробу...
Его отпевали в церкви Бориса и Глеба на Арбатской площади и похоронили в Донском монастыре.
Я не была на похоронах и не простилась с ним. Конечно, в маминых словах была доля правды. Он был певец. В Москве его знали. Эта история наделала шуму. Мое появление было бы, как мне казалось, неуместным и нетактичным, а его мертвому телу это было не нужно. Я около его гроба была бы только зрелищем для любопытных глаз и злых языков.
- А вот теперь я на твоем месте обязательно пошла бы в церковь, объявила Валя. - Я завидую тебе! Это шикарно: такой певец из-за тебя застрелился! Кому это может быть не лестно!
- Ты глупости говоришь, Валя. Я не пошла по многим причинам, и первая из них та, что это уже непоправимо. Я не воскрешу его. Он был так талантлив... Пусть его не осуждают и не смеются над ним за его выбор. Пусть думают, что та, которую он любил, была прелестна...
Вот подлинники его писем и записок, переданные нам в день, когда он застрелился, 14-го августа, в воскресенье.
"Екатерина Прокофьевна, прощайте. Знаю, Вы рады будете моей смерти. Я любил Вашу дочь больше всего на свете. Вы отняли ее у меня. Жить больше не для чего. Храните ее и не толкайте на мерзости. Клянусь Вам, если Вы обидите ее, я жестоко отомщу Вам с того света. Умираю, благословляя Котика. Не обижайте мою милую, хорошую девочку.
Вл. Юдин".
Далее следует его письмо, начало которого я сожгла, так как в нем Владимир обвинял в воровстве Валю Манкаш (теперь Валентину Константиновну Фадееву-Товстолужскую), и у меня остался только второй лист этого послания:
Читать дальше


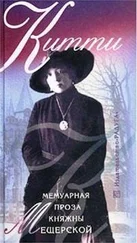



![Екатерина Барсова - Змей в саду Ватикана [litres]](/books/386759/ekaterina-barsova-zmej-v-sadu-vatikana-litres-thumb.webp)




