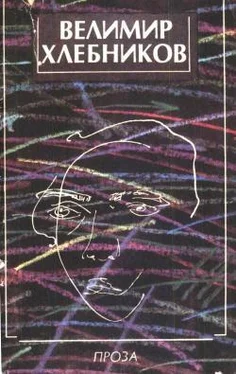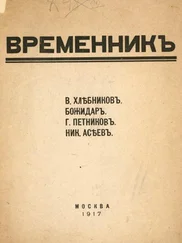И когда старинный золотобородый звонарь ударит в большие и малые колокола и голуби понесутся над миром, тогда медленно исчезнут они одна за другой в высоком темном входе.
Юный отрок, член какого-то темного союза, стоял и жадно всматривался в новый для него мир. Те, кто сражалась вместе с Игорем и плакали вместе с Ярославной, с умиленными и строгими лицами шли одни за другими в храм и несколько свысока оглядывали досужего паныча. Молодцеватые киреи висели на их плечах. И издали мелькали малиновые «богородицы», червонным сердцем врезанные в их воротниках. Все наводило на размышления… Он попал в почти совсем ему незнакомый уголок исконной России. Один и тот же вопрос, чуть не в сотый раз, недоуменно приходил в голову. Отчего этой одежды не носят русские? Должны ли лучшие народы оставлять одиноким народ в его борьбе за свои нравы и обычаи? И можно ли стыдиться той одежды, в которой сражались и умирали предки? Вид его собственных пуговиц, желтых, медных, однообразно болтающихся на своих местах, немного угнетал его. Почему бы ему не надеть этой стройной киреи с малиновой «богородицей», в которой ходили его предки? Недоумевая, переводил он взгляд с одного лица хорошенькой малороссиянки на другое и вдруг встретил улыбающийся насмешливый взгляд дочери огня. Был у ней вкруг головы венок из бумажных цветов и намисто из пышных зеленых и красных бус, только что-то было такое небесно-чертовское в глазах и очаровательно сложенных губах, что заставило произнести: «Э! Тут дело неспроста. Это или красивейшая из дочерей Украины, или дочь неба. Неладно и так и этак». Вздрогнуло что-то в душе доброго молодца, заговорило и затрепетало на резных дубовых листах его духа. Вздрогнул он и по-другому, мужественно, с суровым укором, взглянул на сельскую волшебницу. На ее же лице было счастье и гордость сознания своей силы. Шепот и смех раздались кругом.
— Глядите, паныч! — щебетали одни из проказниц, другие же смешливо спрашивали: «А, цэ таке? — И, смеясь, отвечали: — И не знаем… цэ таке!»
В это время показался под руку с городской барышней парень, что учился в далекой туманной столице. Как подстреленная, затрепетала небесная панночка, увидев подходящих горожан. «Вот, — закричала она, показывая на него рукой. — Вот, — повторила она, задыхаясь и снимая повязку. И вдруг всплеснула руками и воскликнула: — Да что же это такое! Ужли мы, русские зори, не смеем лица показать от срама, в лицо посмотреть немецким? Да неужели нет хлопца постоять за нас? Гайдамаки! Гайдамаки!» И бросила венок на пол, и закрыла лицо руками, и заплакала, и убежала. Тогда, оглянувшись кругом суровыми и грустными глазами, пошел за ней отрок, и было видно, как он перед ней, белой и боязливой, в темной глубине дубов произносил суровую клятву воина: постоять за родину и ее обычаи. «Обижена ты, оклеветана, и некому постоять за тебя», — твердил он себе. И сказал он себе: «Россия для русского обычая».
«Да кто вы, не хлопцы, что ли! — уже сквозь слезы произносила она. — Смотрите, кто вы, на что вы похожи». И отвернулась и надула губки. Хлопцы же почесывали сердито чубы и говорили: «Хоть и девчина, а не сказать бы худого, правду говорит. Ей-богу, правду!»
Между тем, как воробьи, уселись на завалинке местные эсдеки и эсдечки и щебетали о Каутском, как воробьи в солнечную погоду. И, проходя мимо них, панночка гневно стрельнула глазами и промолвила: «У-у, недобрые!»
В тот же вечер журила ее стара. «Что это тебя не видать, так долго было? Так нельзя! И еще накликаешь, на него беду, и будут его пытать и щипцами горячими потчевать. Тебе-то нипочем, а ему каково? Ведь так уж бывало». — «Ни, мамо! — счастливо смеясь, отвечала панночка, — мы все это устроим».
<1911>
Око́ *
(Орочонская повесть)
Око́.
Брат! Ты, как красногорлый соловей, боишься своей красоты, робкий красавец. Разве не знаешь, отчего соленый бывает обед: то от слез моих солона еда. Разве не знаешь, кто робко скрывается в зеленой чаще, когда ты купаешься? — это я прячусь в густых ивах.
Опять ты ушел, гордый и легкий, в лес, а я здесь сижу день одна-одинешенька. Ах, мне чуется, что где-то живут много людей, а не как мы одни вдвоем, брат и сестра. О, какое счастье жить, где много чужих людей, а не брат и сестра! О, если бы ты сказал мне: «Я люблю тебя, сестра!»
Да, ты часто говоришь: «Я люблю тебя, сестра», и ни разу меня не обидел, но ты говоришь на совсем другом, незнакомом языке.
О, если б здесь было много братьев чужих и не родных, какое то было бы счастье! Я бы припала с поцелуями к каждому праху их ног! Я бы дрожала, как береза от удара, от их взгляда. Я бы каждого спросила ранней! ночью, темной осенью: «Брат! ты любишь меня?»
Читать дальше