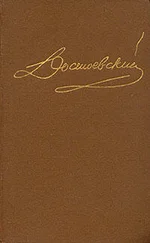Владимир Набоков - Федор Достоевский
Здесь есть возможность читать онлайн «Владимир Набоков - Федор Достоевский» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию без сокращений). В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: Русская классическая проза, на русском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Федор Достоевский
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:4 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 80
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Федор Достоевский: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Федор Достоевский»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Федор Достоевский — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Федор Достоевский», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Почему вторая часть называется "По поводу мокрого снега", можно понять лишь в свете журнальной полемики 1860 г., которую вели писатели, любившие символы, аллюзии и все в таком роде. Быть может, это - символ чистоты, ставшей сырой и тусклой. Эпиграф, содержащий тонкий намек, взят из лирического стихотворения современника Достоевского - Некрасова.
События, которые собирается описать наш человек из подполья во второй части, относятся к 1840-м гг. В то время он был так же мрачен, как и теперь, и ненавидел своих сослуживцев так же, как ненавидит их ныне. Он питал ненависть даже к самому себе. Он вспоминает о самоуничижении. Независимо от того, презирал он человека или нет, он опускал перед ним глаза. "Я даже опыты делал: стерплю ли я взгляд вот хоть такого-то на себе, и всегда опускал я первый". Это доводило его до бешенства. Он признается в трусости, но утверждает, что любой порядочный человек в наше время должен быть трусом. В какое время? В 1840-е или в 1860-е гг.? Исторически, политически, социально - это две непохожие эпохи. 1844 г. - период реакции, разгула деспотизма. 1864-й, когда писались эти записки, - время перемен, просвещения, великих реформ. Но мир Достоевского, несмотря на приметы времени, - серый мир душевнобольных, где ничего не меняется, кроме, быть может, покроя военного мундира - конкретная деталь, неожиданно промелькнувшая в тексте.
Несколько страниц посвящены тем, кого наш человек из подполья называет романтиками. Современный читатель не может понять подтекста, не вникнув в газетную полемику 50-х и 60-х гг. прошлого века. Достоевский и человек из подполья явно имеют в виду "лжеидеалистов", то есть людей, у которых жажда добра и красоты прекрасно уживается с карьеризмом и стремлением к материальным благам. (Славянофилы обвиняли западников в поклонении идолам, а не идеалам.) Все это изложено достаточно путанно и туманно, и нам ни к чему погружаться в этот туман. Мы узнаем, что человек из подполья украдкой, в одиночку ночью предается "развратику", для чего "ходит по всяким темным местам". (Как не вспомнить Сен-Пре, господина из романа Руссо "Юлия", который точно так же запирался в дальней комнате в доме греха, где он предавался возлияниям белого вина, считая его водой, а затем оказывался в объятиях une creature2, как он выражался. Так описывали грех в сентиментальных романах.)
Тема "кто кого переглядит" получает новый поворот, сменяясь темой "кто кого отпихнет". Нашего подпольного жителя - это плюгавое, тщедушное существо - отталкивает прохожий, военный высокого роста. Человек из подполья то и дело встречает его на Невском проспекте (так называется главная улица в Петербурге) и всякий раз клянется себе, что не свернет с дороги, и всякий раз сворачивает, давая гиганту-офицеру гордо прошествовать мимо. Но однажды человек из подполья наряжается как на дуэль или на похороны и с трепетом сердечным твердо решает не уступать ему дороги. Тогда офицер отшвыривает его, как резиновый мячик. Он делает еще одну попытку преградить ему путь, и ему удается сохранить равновесие - они резко сталкиваются плечом к плечу и проходят друг мимо друга "совершенно на равной ноге". Человек из подполья в восторге. Он достиг своего единственного триумфа!
2-я глава открывается рассказом о его сатирических грезах, и лишь потом начинается действие. Вместе с первой частью пролог занимает 40 страниц текста (в переводе Герни). Наш герой навещает старого школьного приятеля Симонова. Симонов и два его друга собираются устроить прощальный обед в честь их четвертого друга Зверкова, еще одного военного в этой повести. "Мосье Зверков был все время и моим школьным товарищем, - говорит человек из подполья. - Я особенно стал его ненавидеть с высших классов. В низших классах он был только хорошенький, резвый мальчик, которого все любили. <...> Учился он всегда постоянно плохо и чем дальше, тем хуже; однако ж вышел из школы удачно, потому что имел покровительство. В последний год его в нашей школе ему досталось наследство, двести душ, а так как у нас все почти были бедные, то он даже перед нами стал фанфаронить. Это был пошляк в высшей степени, но, однако ж, добрый малый, даже и тогда, когда фанфаронил. У нас же, несмотря на наружные, фантастические и фразерские формы чести и гонора, все, кроме очень немногих, даже увивались перед Зверковым, чем более он фанфаронил. И не из выгоды какой-нибудь увивались, а так, из-за того, что он фаворизированный дарами природы человек. Притом же как-то принято было у нас считать Зверкова специалистом по части ловкости и хороших манер. Последнее меня особенно бесило. Я ненавидел резкий, не сомневающийся в себе звук его голоса, обожание собственных своих острот, которые у него выходили ужасно глупы, хотя он был и смел на язык; я ненавидел его красивое, но глупенькое лицо (на которое я бы, впрочем, променял с охотою свое умное) и развязно-офицерские приемы сороковых годов".
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Федор Достоевский»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Федор Достоевский» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Федор Достоевский» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.