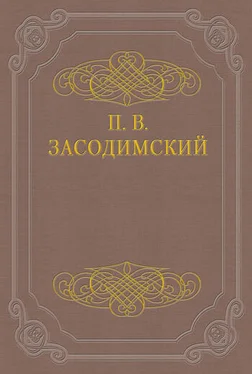«Поклонись мне, отдай мне свою душу – и я тебе дам все, что теперь ты видишь перед собой! – неприятным шепотом заговорила тень. – Полмира твои… Слышишь? Или тебе еще мало?.. Так я тебе дам больше… гораздо больше!»
«Кто же ты? – выговорил я с трудом. – Уж ты не тот ли, что искушал Христа?»
«Да! Ты узнал меня… Я – тот… – шептала тень. – Но смотри, смотри туда… Все это будет твое!»
Тень протянула вперед свою темную, дрожащую руку, и от руки ее на земле вдруг стало черно и мрачно, знаешь, как бывает от набегающей тучи.
«Нет! – крикнул я. – Я не поклонюсь и не отдам тебе душу!»
Тут вдруг грянул гром и с страшным треском прокатился далеко-далеко. Отвратительная тень исчезла, как будто растаяла в воздухе. Над землей все опять стало тихо, и яркое солнце так кротко и ласково светило с небес… В это время я проснулся…
– Странный сон! – заметил я.
Антоша задумчиво посмотрел на меня и ничего не сказал.
К концу великого поста Антоша заметно похудел, щеки его осунулись и побледнели, глаза от худобы казались еще больше, и в этих глазах – до тех пор таких спокойных и кротких – теперь горел какой-то лихорадочный, тревожный огонек. В его лице, в минуты нападавшей на него глубокой задумчивости, я подмечал порою мучительное, почти болезненное выражение. Вообще, Антон Попов в один месяц, от своего постничанья, от дум и бессонных ночей сильно изменился. Мне даже казалось, что он как будто вырос и физиономия его сделалась серьезнее, осмысленнее… Было очевидно, что он ломал голову над каким-то неразрешимым, мудреным вопросом.
Наконец, я не выдержал и однажды вечером решился переговорить с Антошей. Улучив минуту, когда он один стоял у окна, я подошел к нему и тихо положил руку ему на плечо. Он не пошевелился и продолжал задумчиво смотреть в окно…
Голубые весенние сумерки ложились над землей; в ясном небе проступали первые звездочки; вечерняя заря яркой полосой догорала на западе.
– Что с тобой, Антоша? Здоров ли ты? – спросил я, тряхнув его за плечо.
– Здоров… А что? – отозвался он, как бы насильно отрываясь от своих мыслей и мельком взглянув на меня.
– Да ты стал какой-то странный… – начал я.
– Я все думаю… вот видишь… но ужо, погоди, я скажу… – отрывисто заговорил Антоша. – Знаешь… в мире много греха и все мы очень злые люди… Всем нам нужно покаяться и начать новую жизнь… понимаешь? совсем новую…
– Что ты такое, Антоша, говоришь, – Бог знает! – перебил я, с недоумением взглянув на него. – Ты говоришь: надо покаяться… Вот скоро пойдем на исповедь и покаемся…
– Я не о том… – прошептал он, как бы про себя. – Мы должны жить по Евангелию, по-христиански… Вот что!.. А разве теперь мы христиане?
– Да какую же еще нам новую жизнь нужно?.. Я, право, не понимаю… – заметил я.
– Я и сам еще не знаю хорошо… вот об этом-то я и думаю… – печально промолвил он, смотря на тихий вечерний свет, разливавшийся по небу.
Антоша своими странными речами совершенно сбил меня с толку. Я, конечно, уже давно знал Евангелие: я слыхал, как читали его в церкви; дома моя мама часто читала его вслух, сам я, наконец, не раз читал его… По моему мнению, для того, чтобы быть добрым христианином, вполне достаточно исповедовать символ веры, знать Евангелие, верить ему, почитать его, как священную книгу, и носить на шее крест. До сего времени мне и в голову не приходило, чтобы от христианина требовалась жизнь по Евангелию…
Я не знал, что и подумать об Антоше. Мне, по легкомыслию, иногда казалось, что друг мой просто не в своем уме…
Впрочем, он довел себя до такого истощения, что ничего не было бы удивительного, если бы ему стали наяву являться видения. Лицо его сделалось какое-то прозрачное, и вообще он походил на человека, умерщвляющего свою плоть. Это не я один замечал; в то время об этом говорили многие…
В четверг на страстной неделе, после вечернего чая, когда лампы в большой зале были уже зажжены, Антон Попов заявил гувернеру, что он хочет сказать проповедь, и просил у него ненадолго колокольчика. Гувернер-старичок благосклонно отнесся к его «выдумке» и дал ему свой колокольчик: старик держался того мнения, что чем бы дети ни тешились, только бы не плакали, чем бы мы ни забавлялись, лишь бы не дрались и не буянили…
Антоша растворил дверь настежь в первый класс – в комнату, соседнюю с залой – взошел на кафедру, поставил на нее два зажженные сальные огарка и неистово зазвонил в колокольчик. Все мы бросились в первый класс. Нас, воспитанников, было тогда в гимназическом пансионе человек около ста. Скоро вся большая комната набилась битком: стояли на скамьях, на столах, взбирались на подоконники.
Читать дальше