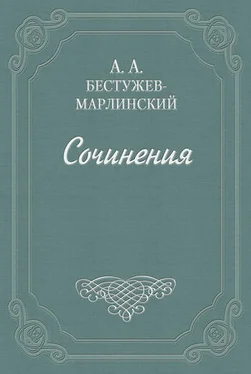– Скажи, пожалуй, отчего мы не проехали ни одной деревеньки, которая бы походила на другую? В иных наши русские избы с узорными полотнами по кровле и высокими деревянными трубами в прорезе; в иных мазанки, с горшком для дымовья, в иных чухонские лачуги, у которых из каждой щели, как из жерла, чернеет копоть.
– Изволишь видеть, князь, край этот зовется теперь Польскими Инфантами и уступлен Польше немецкими рыцарями. От этого здесь есть и чудские переселенцы, и туземные латыши, и старинные литовцы, и настоящая польская шляхта, и беглые русские, которыми в особенности заселены пограничья. Да и между панами такой же сброд: кто немец, а кто литвин, кто барон, кто князь.
– Ну, а хорошо ли они знают остальную Польшу и другой конец Литвы? Украйну, Подолию?
– И все-то поляки, кроме своего округа, не знают, да и знать не хотят отчизны – а здешние медвежники всех менее. Варшавцы и краковяки смеются над ними; они презирают варшавцев и краковцев вместе и доказывают, что предки их были уже дворянами, когда в Польше жили одни лягушки.
– Тем лучше, тем лучше. Стало быть, нам без страха можно будет рассказывать сказки. Помни же, пан Зеленский, что я литовский дворянин Яромир Маевский, а ты шляхтич Стребала; что мы раненые взяты были в плен в Кремле и теперь, вымененные, возвращаемся домой через северную Русь, по приказу государеву, чтобы не столпить пленных на военной дороге к Смоленску. Говоря по-польски, как поляк, и зная почти всех бывших при дворе Димитрия, и в войсках коронных, и в полках Тушинского вора, я надеюсь порядочно подделаться к польскому ладу. Про тебя и говорить нечего: ты родовитый добродзей, а впрочем, всему делу авось.
– Все это хорошо, сударь князь, если не случится там никого из бывалых под Москвою; а как, на грех, какой озорник нас узнает? Не миновать тогда воздушного путешествия – у них суд короток.
– Что ж делать, пан Зеленский, отвага ест медок, а робость – ледок. Волков бояться, так и ягод в глаза не увидишь. Смекай, что я наскажу тебе: мне надобно выкрасть от Колонтая русскую пленницу – так ты хорошенько разузнай, где она спит, когда гуляет. Перещупай все затворы, пронюхай все лазеечки и держи ухо востро и коней в подпругах.
В это время они встретились с бедным крестьянином, который на низкой некованой тележке ехал за сеном и, завидя всадников, опрометью своротил с дороги и опрокинул в овраг свою повозку, – но вместо того чтоб поднимать ее, он только боязливо кланялся проезжим. На истощенном лице его написана была жалкая простота. Белый изношенный балахон прикрывал тело.
– Далеко ли до Самполья? – спросил князь.
– Близко, паночек, – ответил тот по-русски.
– Это значит, дай Бог поспеть туда к обеду, – заметил Зеленский, – здешнее «близко» длиннее коломенской версты.
– Однако ж как близко, добрый человек? – повторил князь.
– В старину было пять миль, паночек, да панья смиловалась: велела только трем быть.
– Добрая же у вас панья.
– И храни Бог, какая добрая: сама нам сказывает, что за нас в церкви молится; да пан эконом нас обманывает: последнюю корку и курку отнимает, а в год кожи две, три обновит – а все говорит: «Панья велела».
– Ну, брат Зеленский, это, видно, по-нашему: у ханжей и на Руси одним кошкам масленица.
– Какое сравнение, князь, житью русского мужичка с польским – тот не продается наряду с баранами, и, дождавшись Юрьева дня, – поклон да и вон от злого боярина. А здесь холопа и человеком не считают; его же грабят да его же и в грязь топчут. Я знаю одного пана, который отдает выкармливать своих щенков кормилицам, отымая у них грудных младенцев.
– Это клевета, – сказал Серебряный, содрогнувшись.
– Дай Бог, чтобы это была клевета. Что греха таить, князь, я вырос на отнятом хлебе, я привык с малолетства гулять на счет крестьянина и в чужбине и на родине; совесть у меня не из застенчивых, а, право, сердце поворачивается, когда посмотришь, бывало, что делают паны со своими холопами.
Князь долго ехал в молчании… время летело.
– Мы уж близко к замку пана Колонтая, – сказал наконец Зеленский. – Не худо бы нам пооправиться у этой речки. Везде по платью встречают, а по уму провожают.
– И в самом деле так, – отвечал князь, слезая, – дай-ка мне зеленый польский контуш да и сам нарядись побогаче – и будь если не умнее, то скромнее, чтобы заслужить хорошие проводы. Я прошу тебя для этого только мочить усы в чарке.
– Нет, князь, коли пить, так пить – а то незачем и нюхать. У меня губа словно грецкая губка, – чуть окунешь ее в вино, донышко и проглядывает, а голова хоть выжми.
Читать дальше