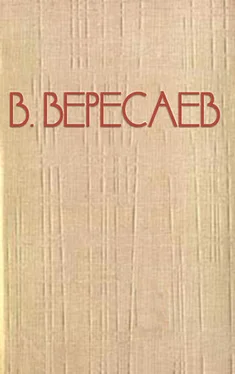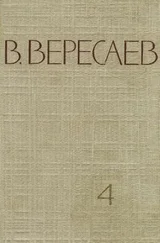Лев Николаевич обратился к домашнему врачу, стал рассказывать о своем сердце, спросил, продолжать ли принимать назначенные капли. Врач взял его за пульс, а Лев Николаевич с покорным, детским ожиданием смотрел на него.
– Да, продолжайте принимать.
– По скольку? По пятнадцати или по двадцати капель? Э-ге-ге! Выходит, вовсе мне уж не так было бы трудно в качестве домашнего врача. Пульс-то, оказывается… существует!
Позвали обедать. Мы поднялись во второй этаж. На лестнице, когда подымались, Толстой спросил меня:
– Вы женаты?
– Да.
– Дети есть?
– Нет.
Толстой потемнел.
– А давно женаты?
– Шесть лет.
Он замолчал, но глаза его взглянули сурово, и я почувствовал, – он сразу, резко, переменил свое отношение ко мне. По-прежнему был вежлив и мягок, но то теплое, что до того было в глазах, исчезло.
Большая зала, блестящий паркет, старинные портреты по стенам, в углу мраморный бюст Толстого. Длинный стол. Во главе его, на узкой стороне, села Софья Андреевна, справа от нее, у длинной стороны, Лев Николаевич. Прислуживали лакеи в перчатках. Льву Николаевичу подавались отдельно вегетарианские кушанья.
Он спросил меня, почему я живу в Туле. Я ответил, что выслан министром внутренних дел из Петербурга. Толстой вздохнул и с завистью сказал:
– Меня ни разу не высылали, я ни разу не сидел в тюрьме, – я не имел этого счастья.
После обеда Лев Николаевич предложил нам пройтись. Было ясно и солнечно, в колеях обсохшей дороги кое-где блестела вода от вчерашнего дождя. Лев Николаевич шел своей легкой походкой, ветерок шевелил его длинную серебряную бороду. Он говорил о необходимости нравственного усовершенствования, о высшем счастье, которое дает человеку любовь.
Я сказал:
– Но если нет у человека в душе этой любви? Он может сознавать умом, что в такой любви – высшее счастье, но нет у него ее, нет непосредственного, живого ее ощущения. Это величайший трагизм, какой может знать человек.
Толстой в недоумении пожал плечами.
– Не понимаю вас. Если человек понял, что счастье – в любви, то он и будет жить в любви. Если я стою в темной комнате и вижу в соседней комнате свет и мне нужен свет, – то как же я не пойду туда, где свет?
– Лев Николаевич, на ваших же всех героях видно, что это не так просто. Оленин, Левин, Нехлюдов очень ясно видят, где свет, однако не в силах пойти к нему.
Но Толстой только разводил руками. Видно было, что он искренне хочет понять этот самый «трагизм», выспрашивал, слушал внимательно и серьезно.
– Простите меня, не понимаю!
А я не мог понять, как же этого не может понять имена Толстой: в чем же трагедия всех рисуемых им искателей, как не в том, что они оказываются неспособными жить «в добре», твердо убедившись умом, что счастье – только в добре?
Между прочим, я рассказал Льву Николаевичу случай с одной моей знакомой девушкой: медленно, верно и бесповоротно она губила себя, сама валила себя в могилу, чтоб удержать от падения в могилу свою подругу, – все равно обреченную жизнью. Хрупкое свое здоровье, любимое дело, самые дорогие свои привязанности, – все она отдала безоглядно, даже не спрашивая себя, стоит ли дело таких жертв. Рассказал я этот случай в наивном предположении, что он особенно будет близок душе Толстого: ведь он так настойчиво учит, что истинная любовь не знает и не хочет знать о результатах своей деятельности; ведь он с таким умилением пересказывает легенду, как Будда своим телом накормил умирающую от голода тигрицу с детенышами.
И вдруг, – вдруг я увидел: лицо Толстого нетерпеливо и почти страдальчески сморщилось, как будто ему нечем стало дышать. Он повел плечами и тихо воскликнул:
– Бог знает, что такое!
Я был в полном недоумении. Но одно мне стало ясно: если бы в жизни Толстой увидел упадочника-индуса, отдающего себя на корм голодной тигрице, – он почувствовал бы в этом только величайшее поругание жизни, и ему стало бы душно, как в гробу под землей.
Само же слово «трагизм», видимо, резало ему ухо, как визг стекла под железом. По губам пронеслась едкая насмешка.
– Трагизм… Бывало, Тургенев приедет и тоже все: «траги-изм, траги-изм»…
И так он это слово сказал, что где-то в душе стало совестно за себя, и шевельнулся странный, нелепый вопрос: да полно, существует ли вправду какой-нибудь в жизни трагизм? Не «притворство» ли все это?
Потом Толстой заговорил о присланной ему Мечниковым книге «Essai de la philosophie optimiste». [43]С негодованием и насмешкою он говорил о книге, о «невежестве», проявляемом в ней Мечниковым.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу